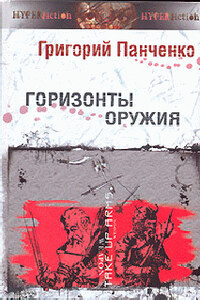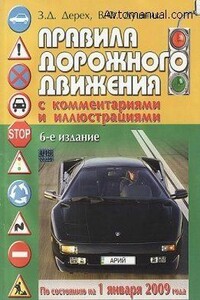Латвийский путь к новому кризису | страница 51
Падение производства продуктов питания в I кв. 1997 г.
(в процентах к IV кв. 1997 г)
Мясо 87,7
Рыбная продукция 69,9 Масло 56,9 Сыр 74,8
Молочн. консервы 68,1 Конд. изделия 70,6 Хлеб-95 ,0
Даже такая ведущая отрасль, как производство древесины, сокращала своё производство в апреле и мае на 5% в месяц. Сократилось производство в металлургии в мае на 16%. В I кв. 1998 года на 20% сократился объём перевозок по железной дороге. Всё это происходило задолго до российского дефолта. Это был следующий нормальный латвийский кризис перепроизводства, уже второй за три года. Латвийские кризисы перепроизводства следовали в Латвии в два раза чаще, чем в остальном мире. Связано это было с крайне низкой покупательной способностью и малой ёмкостью внутреннего рынка.
Влияние российского дефолта на латвийскую экономику не надо преувеличивать. Ведь уже тогда наш экспорт отставал от нашего импорта на 70%. Экономику Латвии значительно сильнее определяет импорт, а не экспорт. Поэтому мы из последних сил держим высокий курс своего лата в интересах импортеров у них основная масса национального капитала, и они платят большую часть налогов. На потери экспортеров в России латвийскому государству было наплевать. А значение потери рынка в России можно понять из следующих цифр: за 9 месяцев 1998 года в Россию было вывезено всего 65 тонн масла и 1659 тонн сыра. Эту возможность мы потеряли из-за изменения курса. Катастрофично ли это? Нет, кризис был обусловлен нашими внутренними условиями, которые создает наше правительство.*
Низкая покупательная способность населения связана была (и есть до сих пор) с постоянно растущим расслоением населения по доходам надушу населения. Большинство населения получало слишком малую часть доходов, чтобы своей покупательной способностью обеспечивать развитие внутреннего рынка и развитие внутреннего производства.' В Латвии к 1998 году соотношение доходов 20% самых богатых к доходам 20%> самых бедных достигло 5,3. Это не уровень соседних успешных северных стран, по пути которых, как утверждают наши руководители, они хотят вести Латвию. В Норвегии этот коэффициент составляет 3,7, это самая богатая из крупных стран. В Швеции 3,6, в Финляндии 3,6. И это не только у северных стран, у других успешных тоже: у Австрии 3,6, у Чехии 3,5. А в Латвии в результате концентрации всех доходов в узком слое населения в 1998 году, по данным ООН, 22%) населения жило ниже уровня бедности. В нищете. Естественно, они ничего, кроме хлеба не покупали, и этим создавали тот очередной кризис перепроизводства, который поразил Латвию в 1998 году. Но наши богатые были относительно самыми богатыми из Северных стран, хотя у них не было, ни норвежского газа и нефти, ни высокотехнологической промышленности, как в Швеции или Финляндии. Были только нищие и миллионеры.