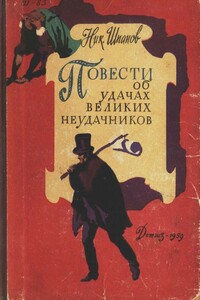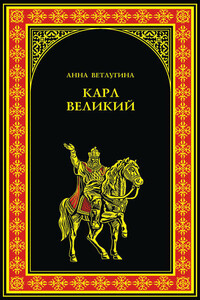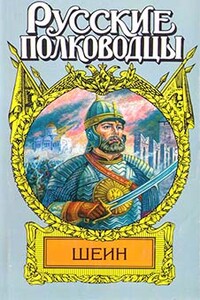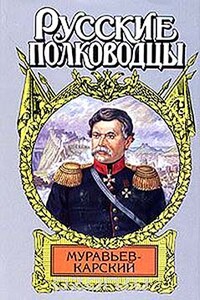Исповедь советского человека. Война и дети, пережившие войну | страница 10
И вот однажды мачеха собрала небольшой узелок, отвезла меня в Пятигорск и сдала, как ненужную вещь, в детскую комнату спецприемника милиции для беспризорников. Столь подлое предательство и меня, и светлой памяти моего папы — ее мужа — сопровождалось неслыханной наглой ложью, байкой о том, что она-де мне никто, что «эту девочку» она, «по доброте душевной», якобы подобрала на рельсах, а мать, мол, погибла при бомбежке. Мачеха скрыла, что мой папа — ее муж, заодно расписав, какой я трудный, вольнолюбивый, неуправляемый ребенок. Я горячилась и, раскрасневшись, кричала, что это — «моя мама» (ведь так я ее звала на самом деле!), но доказать ничего не смогла. Поверили ей — взрослому человеку, а не мне — ребенку. Да и времени и возможностей детально разбираться во всём этом у милиции тогда не было. Так я там и осталась… С тех пор в моих «личных делах» было записано: «отец-полковник погиб на фронте, мать погибла при бомбежке».
В детприемнике обитали самые разные дети и подростки всех возрастов, их собрали по вокзалам, рынкам, разрушенным зданиям, лесам. Мы, военные сироты, быстро сплачивались и сдруживались. Воспитателями работали женщины-милиционеры — милые, добрые, но строгие, хотя обходилось без затрещин. Хочу особо отметить, что в милиции тогда служили, в основном, женщины, ни в чем не уступавшие мужчинам — ответственные, храбрые, бесстрашные, даже отчаянные, но милосердные и человечные.
Нас отмыли, постригли, обработали от вшей, накормили, спали на чистых простынях. Из детприемника большой группой, под охраной вооруженных милиционерш повезли в Горнозаводский детский дом для трудновоспитуемых детей Советского района Ставропольского края. Однако в Минводах, несмотря на бдительную охрану, несколько ребят все-таки сбежало, найти их не смогли. От станции Аполлонская (название, возможно, неточное) до детдома шли пешком почти два дня. Ночевали в каком-то клубе на стульях. По пути, в станицах жители встречали очень дружелюбно, жалели нас, оборванных и голодных, кормили кто чем богат.
В детдоме у всех были клички, у меня — «Полковница»: я всем рассказывала о папе и плакала, всё равно веря, что он жив, хотя и «пропал без вести». Всё делали сами: косили сено, работали на кухне и в прачечной, собирали дикие фрукты по лесополосам, помогали пасти скот, вкалывали в поле. Одеты кто во что, обуты в грубые ботинки из свиной кожи с деревянными подошвами. В жилых комнатах окна без стекол, просто заколочены досками. Топить было нечем, мы ходили километров за семь запасать дрова. Воспитательницы прекрасно к нам относились, и мы, изголодавшиеся по доброте и ласке, любили их, слушались. На память о пребывании в детдоме у меня осталась недоставленная наколка на руке: один малолетний «авторитет», силой хотел выколоть своё имя, но мне удалось вырваться и убежать. Но такие как он были исключением.