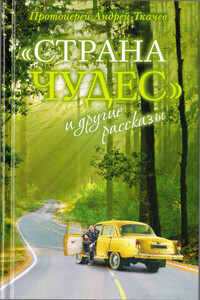Воздух небесного Града | страница 87
Помянем поэта и мы.
Трудно называть его Михаилом Юрьевичем. 26 лет к моменту смерти — всего лишь...
Корнями Лермонтов уходит к шотландцам, и, может статься, косвенно отослано к нему стихотворение Мандельштама:
Я не слыхал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина;
Зачем же мне мерещится поляна, Шотландии кровавая луна?
И перекличка ворона и арфы Мне чудится в зловещей тишине;
И ветром развеваемые шарфы Дружинников мелькают при луне!
Перекличку ворона и арфы Лермонтов не слышал, но что-то ему явно мерещилось, и не раз. В его роду, вроде бы, были барды, смотревшие на поэзию как на экстаз и озарение (разумеется, в языческом понимании). А на его родовом гербе написано: «SORS МЕА JESUS», то есть: «Судьба моя Иисус». Если у человека кровь барда, а судьба его — Иисус, то без трагического разделения не обойтись. Таков он и есть, молодой человек Михаил Юрьевич, человек одновременно и гениальный, и трагически разделённый.
Поэт раздвоенности — так можно его охарактеризовать. Вчитайтесь-ка в эти строки:
231
Ни ангельский, ни демонский язык:
Они таких не ведают тревог,
В одном всё чисто, а в другом всё зло. Лишь в человеке встретиться могло Священное с порочным. Все его Мученья происходят оттого.
Вот это диагноз! Вот это рентген! А ведь это строки из безымянного стихотворения, озаглавленного датой: 11 июня 1831 года. То есть автору ещё нет семнадцати! А между тем мы видим семя для будущей фразы Достоевского о борьбе рая и ада на поле души человеческой. «Лишь в человеке встретиться могло...» Такое прозрение вымучивается, дарится наперёд, даётся за что-то или для чего-то? Вопросов много. Ответов нет даже у самого Лермонтова. Он не врач. Он сам мучается.
В том же 1831 году были написаны и эти бессмертные строки:
По небу полуночи Ангел летел,
И тихую песню он пел;
И месяц, и звёзды, и тучи толпой Внимали той песне святой.
232
Он пел о блаженстве безгрешных духов Под кущами райских садов;
О Боге великом он пел, и хвала Его непритворна была.
Обратим внимание вот на эти чудесные слова: «О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была». Непритворную хвалу Великому Богу многие считали невозможной, относя всякую молитву к области лицемерия. Лермонтов же эту хвалу слышал явно, или чувствовал. Он всегда был отчуждён, одинок. Но, в отличие от байронизма, толкующего одиночество как чувство возвышенной души в окружении плебеев, Лермонтов проговаривается об иных истоках отчуждённости. Это — память об иных звуках! Слышится Розанов: «Иисус сладок — и мир прогорк».