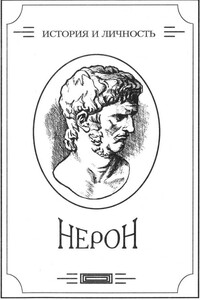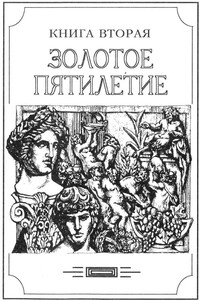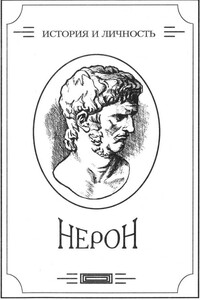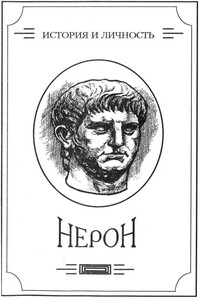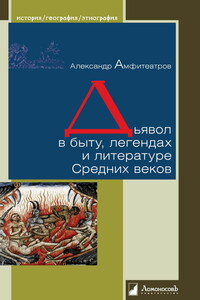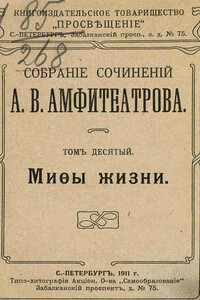Зверь из бездны том IV (Книга четвёртая: погасшие легенды) | страница 71
В 63 году не только в Риме, но и в священном городе Иерусалиме можно было считаться праведным иудеем, открыто христианствуя, и выражать сочувствие к христианству, не переставая через то быть строгим — даже — фирисеем, как то совершенно ясно явствует из процесса апостола Павла, который и сам себя открыто причислял к этому толку, и находил в нем сочувствие и защиту (Д. XXIII. 6—9). Из всех апостолов ап. Павел стяжал наибольшую вражду иудеев, как основатель христианства языков. Господствующие секты гнали его, били до полусмерти, подводили под суд, составляли заговоры на его жизнь, довели его до того, что римская тюрьма и римский полицейский надзор сделались единственно надежной охраной. Но все его ссоры с иудеями все-таки не разлучили его с ними. Он не оглашен по иудейскому миру, как вероотступник, — он только вольнодумец, который искусно спорит о законе в синагогах и, побивая оппонентов силой слова, часто бывает побит ими силой физической. Эти гонения, несмотря на всю их прискорбность, далеки от полного разрыва старой религии с новым сектантом. Религиозные диспуты евреев и сейчас ведутся с фанатической страстностью, весьма часто доводящей участников до самых грубых насилий. Однако из этих споров о вере еще не родится конечных отлучений, и никто из диспутантов — ни победитель, ни побежденный, — после спора о вере не перестанет ни быть, ни считаться, ни считать сам себя иудеем. Вспомните чудесные сцены в «Уриале Акосте». Точно то же было и с ап. Павлом: бурные сцены, которыми прекращались его проповеди, кажутся тесно связанными между собой, как будто непрерывными, только в быстром и лаконическом повествовании «Деяний» могущественный драматизм их развязки заставляет нас забывать об их медленном назревании. Павел и Варнавва живут в Антиохии целый год, создают здесь, «уча в церкви», группу последователей, которые «в первый раз стали называться христианами» (Д. XI. 25, 26); затем совершают путешествия в Иерусалим и на о. Кипр; возвратясь в Антиохию, они — уже хорошо известные здесь прежней деятельностью — идут в синагогу. Начальник синагоги, конечно, знает их, для него они — сектанты, раскольники; он понимает, что ждать от них речей, благоприятных закону, нельзя. Одного, при всем том, не только не противится их слову, но еще сам же и предложил им говорить:
«Мужи-братья! Если у вас есть слово наставления к народу, говорите» (Д. XIII. 14, 15).
В Антиохии разрыву с синагогой предшествует более чем годичная, в недрах ее, открытая проповедь к «мужам братьям». В Коринфе Павел общается с синагогой год и шесть месяцев до бунта против него, поднятого Сосфеном, и еще «довольно дней» после бунта (Д. XVIII. 1, 4, 8, 11, 17, 18); в Ефесе ссоре с синагогой предшествовало три месяца (Д. XIX. 8) и т.д. Притом все эти разрывы, — несмотря на остроту свою, — местные: они не получают широкой огласки. Прежде чем на Павла восстало правоверное азийское иудейство в совокупности всех своих синагог, он имел с каждой из них ссоры порознь: против него не издавалось окружных посланий, эмиссары синагог, посылаемые в противодействие ему, не уходили дальше соседних городов (Д. XIV. 19; XVII. 13). Даже после страшной иерусалимской бури против Павла, — во время которой он, однако, имел фарисеев на своей стороне, — даже после его двухлетнего процесса, он, казалось бы, должный стать уже еретической знаменитостью во всем еврействе, оказывается совершенным незнакомцем для иудейской общины Рима: