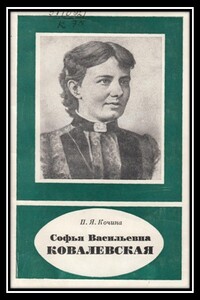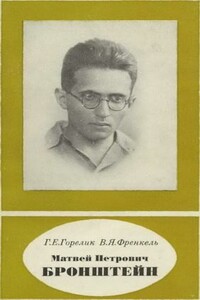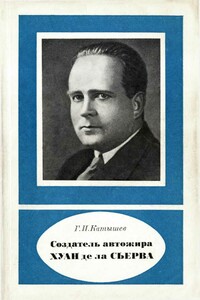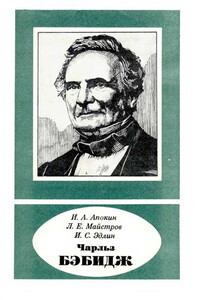Андрей Тимофеевич Болотов – выдающийся деятель науки и культуры 1738—1833 | страница 7
В связи с памятными датами А. Т. Болотова (150- летием со дня смерти — 1983 г.— и приближающимся 250-летием со дня рождения — 1988 г.) внимание к ученому значительно возросло. Достаточно сказать, что за 20 последних лет ему было посвящено 16 публикаций, в том числе книга С. Новикова «Болотов» [8 Новиков С. Болотов. М.: Сов. Россия, 1983. 335 с.]. Издательство, выпуская ее, очевидно, ставило перед собою благородную задачу ознакомить советских читателей с жизнью и творчеством замечательного ученого. К сожалению, решить эту задачу в должной мере ему не удалось.
Конечно, нельзя не отдать должного автору. Книга написана эмоционально, живым увлекательным языком, с привлечением обширного исторического материн ала. Поэтому читается легко и с интересом. И, будь она историческим романом, может быть, и не потребовалась бы суровая критика ряда ее положений. Однако в подзаголовке книги значится: «Документальная историчеческая повесть». Следовательно, читатель должен воспринимать сообщаемое в повести как действительно происходившее. Нарушение принципа документализма составляет существенный недостаток книги. Автор настолько вольно обращается с историческими фактами, что события меняются во времени местами, исторические личности становятся тем, кем они никогда не были, им приписываются поступки, которые совершали другие лица.
И все-таки главный недостаток книги мы видим в том, что С. М. Новиков взял на себя смелость трактовать научную деятельность А. Т. Болотова, не будучи специалистом в этой весьма сложной сфере жизни.
Слабо ориентируясь в сельскохозяйственном производстве и его научных основах, Новиков порой так искажает эксперименты А. Т. Болотова и его теоретические рассуждения, что вместо талантливого исследователя перед читателем предстает образ невежды, допускающего элементарные методические ошибки и даже явные нелепости.
Работа над хроникой жизни ученого облегчалась тем, что большую часть ее Андрей Тимофеевич изложил в своих уже упоминавшихся «Записках». С. М. Новиков хорошо их использовал, и чисто бытовая сторона жизни Болотова освещена им достаточно живо. Однако не обошлось и без существенных погрешностей. Так, на с. 136 Новиков пишет: «Племянница просила помочь оформить следуемую часть наследства умершего отца (Марфа скончалась раньше, вслед за старшей сестрой)». Однако известно, что Марфа (сестра Болотова) умерла в 1764 г., а Прасковья (старшая сестра)—в 1766 г. Еще более разительный пример неряшливости показывает С. М. Новиков па с. 128. «Беда не ходит в одиночку: на Псковщине безвременно скончалась любимая сестра Прасковья. И в немногие после того дни умер у него на руках второй сын, Степан, в котором души не чаял». Когда умерла Прасковья, уже говорилось, а Степан родился лишь в 1768 г. Как он мог умереть, еще не родившись, ведомо, вероятно, лишь одному С. М. Новикову.