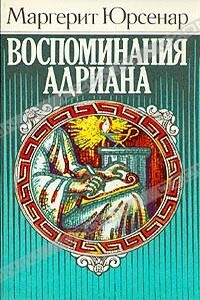Алексис или Рассуждение о тщетной борьбе | страница 31
Следующая зима была дождливой. Я простудился. Я так привык недомогать, что не встревожился, когда заболел всерьез. В годы, которые я Вам описываю, у меня часто возобновлялись нервные приступы, мучившие меня в детстве. Простуда, которую я не пытался лечить, подорвала мои силы — я заболел снова, и на сей раз очень тяжело.
Тут я понял, какое счастье быть одному. Если бы я тогда умер, мне не о ком было бы сожалеть. Я полностью от всего отрешился. Из письма одного из моих братьев я как раз узнал о том, что моя мать уже месяц как умерла. Я опечалился, в особенности от того, что у меня украли несколько лишних недель скорби. Я был совсем один. Пользовавший жителей квартала врач, которого в конце концов ко мне позвали, вскоре перестал меня навещать, соседям надоело за мной ухаживать. Меня это устраивало. Я был так спокоен, что у меня даже не было нужды смириться. Я наблюдал за своим телом — оно боролось, задыхалось, страдало. Оно хотело жить. В нем была вера в жизнь, которой я не мог не восхищаться: я почти раскаивался, что презирал его, доводил до отчаяния, жестоко наказывал. Когда мне стало немного лучше и я смог подняться с кровати, мой мозг, еще слишком слабый, был неспособен к долгим размышлениям; первые радости я познал через свое тело. Помню почти священную красоту хлеба, робкий луч солнца, которому я подставлял лицо, и как меня ошеломила жизнь. Настал день, когда я смог облокотиться на подоконник раскрытого окна.
Я жил на унылой окраинной улице Вены, но бывают минуты, когда довольно какого-нибудь дерева, ветки которого нависли над стеной, чтобы напомнить тебе, что на свете есть леса. В тот день всем своим телом, пораженным тем, что оно возвращается к жизни, я вновь открыл для себя красоту мира. Вы знаете, как я открыл ее впервые. И, как в первый раз, я плакал, не столько от счастья и благодарности, сколько при мысли о том, что жизнь так проста и была бы такой легкой, будь мы сами способны просто принимать ее.
Болезнь я упрекаю за то, что для больного отречение становится слишком доступным. Ты начинаешь думать, что излечился от желания, но выздоровление влечет за собой рецидив, и ты замечаешь все так же ошеломленно, что радость еще может стать причиной страдания. В течение первых месяцев я думал, что смогу продолжать смотреть на жизнь равнодушными глазами больного. Я упорно цеплялся за мысль что, скорее всего, жить мне осталось недолго: я прощал себе свои грехи, как Господь, без сомнения, простит нас после нашей смерти. Я уже не укорял себя за то, что меня слишком волнует человеческая красота; в том, что при виде ее сердце у меня начинает трепетать, я видел слабость выздоравливающего, простительное смятение тела, так сказать, обновленного для жизни. Я вновь стал давать уроки, давал и концерты. Это было необходимо — болезнь потребовала больших расходов. Никто ни разу не справился обо мне, и теперь люди, в семьях которых учительствовал, не замечали, насколько я еще слаб. Не стоит на них за это сердиться. Я был для них всего лишь молодым человеком, очень незлобивым, очень благоразумным с виду и дешево бравшим за уроки. Они смотрели на меня только под этим углом зрения, и то, что я какое-то время отсутствовал, восприняли как досадную помеху. Едва у меня хватило сил совершить более долгую прогулку, я отправился к княгине Катарине.