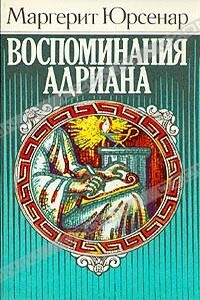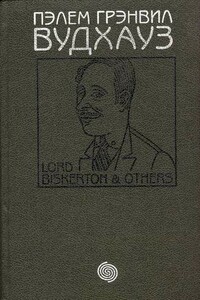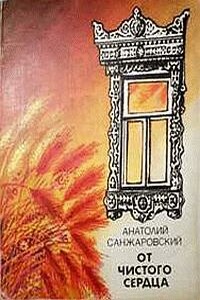Алексис или Рассуждение о тщетной борьбе | страница 23
Я приехал в Вену. Мать внушила мне по отношению к австрийцам все предубеждения, свойственные жителям Моравии; первая неделя в Вене прошла для меня так тяжко, что я предпочитаю о ней не вспоминать. Я снял комнату в очень бедном доме. Преисполнен я был самых добрых намерений. Помнится, я считал, что смогу методически разложить по полочкам все свои желания и горести, как раскладывают по ящикам вещи. В двадцать лет самоограничение полно какой-то горькой отрады. Я прочел, не помню уж в какой книге, что в известный период отрочества некоторые отклонения случаются довольно часто, и старался привязать свои воспоминания к более ранним временам, чтобы доказать себе, что речь шла о совершенно банальных случаях, ограниченных тем отрезком моей жизни, который уже миновал. Предаваться радостям в другой форме мне и в голову не приходило, стало быть, надо было выбирать между моими склонностями, которые я считал преступными, и полным отречением, которое, наверное, противоречит человеческой природе. Я сделал выбор. В двадцать лет я приговорил себя к полному одиночеству души и тела. Так начались несколько лет борьбы, наваждений, непреклонности. Не мне называть эти усилия похвальными, кто-то, может быть, назовет их безрассудными. Так или иначе, они все же кое-что значат, ибо позволяют мне теперь с большей долей самоуважения принять себя таким, какой я есть. Именно потому, что в этом незнакомом городе было куда больше возможностей поддаться соблазнам, я считал своим долгом отвергать их все; я не хотел обмануть доверие, какое мне оказали, разрешив уехать. И, однако, странно, как быстро мы привыкаем к самим себе; я вменял себе в заслугу отказ от того, что еще несколько месяцев назад, казалось бы, внушало мне ужас.
Я уже сказал Вам, что поселился в довольно жалком доме. Господи, ни на что другое я и не претендовал. Но бедность трудно переносить не из-за лишений, а из-за тесноты. Положение нашей семьи в Пресбурге избавляло меня от соприкосновения с гнусной средой, которое приходится терпеть в городе. Несмотря на рекомендации, какими меня снабдили родные, я долго не мог найти уроки из-за моей молодости. Я не любил выставлять себя в выгодном свете и не знал, как взяться за дело. Работа аккомпаниатором в театре, где окружающие думали меня подбодрить, обращаясь со мной запанибрата, оказалась для меня тягостной. Именно там у меня сложилось далеко не лучшее впечатление о женщинах, которые считаются достойными любви. К несчастью, я был очень чувствителен к внешней стороне вещей; я страдал из-за дома, в котором жил, страдал из-за людей, которых мне иногда приходилось там встречать. Вы сами понимаете, какими вульгарными они были. Но в отношениях с людьми меня всегда поддерживала мысль, что они не слишком счастливы. Да и вещи тоже не очень счастливы, вот почему мы привязываемся к ним. Моя комната вначале внушала мне отвращение, она была унылой, а от ее безвкусного шика сжималось сердце, потому что с первого взгляда становилось понятно, что на лучшее денег не хватило. Чистотой она тоже не отличалась: видно было, что до меня здесь жили другие люди, и это вызывало у меня некоторую брезгливость. Но потом я стал раздумывать, что это были за люди, стал рисовать себе их жизнь. Они словно бы сделались моими друзьями, и поссориться с ними я не мог, потому что не был с ними знаком. Я говорил себе, что они сидели вот за этим столом, горестно подсчитывая расходы минувшего дня, что на этой самой кровати они спали или проводили бессонные ночи. Я Думал о том, что у них, как и у меня самого, были свои мечты, свои достоинства, свои пороки и свои несчастья. Не знаю, мой друг, к чему послужили бы наши собственные изъяны, если бы они не учили нас жалости.