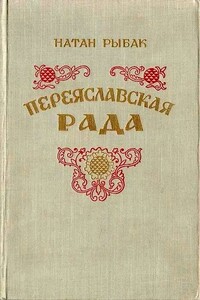Днепр | страница 46
— Известное дело — расстреляли… В тюрьме свела меня судьба с рабочим, к которому приходил я с запискою Матюшенка. Хороший человек. Разум — огонь. На каторгу заслали его, на вечную каторгу.
— Бросать тебе надо эти дела! — сказал поучительно Саливон. — Хлебнул горя, можешь и еще похуже хлебнуть.
— Волков бояться — в лес не ходить… Двух смертей не бывает.
Петро криво усмехнулся.
— А есть еще такое присловье, — не успокаивался Саливон, — с волками жить — по-волчьи выть. Ты лучше за работу берись. Человек ты ловкий, силой бог не обидел. — Саливон пощупал мускулистые руки Петра. — Иди ко мне в лоцманы, плоты будем водить, деньги заведутся, хату подкрепишь, вишь, как скособочилась…
Петро глянул на хату и пожал плечами.
— Пошел бы, Петро, — несмело вставила Мокрина.
Максим не уговаривал. Он задумчиво смотрел вслед уходящему дню. Низко над овином кружил ястреб. Упругие распластанные крылья чертили прозрачный воздух. В кустах тревожно кудахтала клушка, собирая цыплят.
— Ладно, дед, пойду в лоцманы, — прервал молчание Петро.
Сидели допоздна под яблоней. Уже поднимался в логах туман, вялый, влажный ветер бродил меж кустов.
Утром двинулись. В Херсоне сели на пароход. Нестерпимо пекло. В забитом пассажирами трюме нечем было дышать. Саливон, братья Чорногузы и Марко забились в угол, ближе к носу парохода; там было прохладнее.
Марко все присматривался к новому лоцману. Его привлекала стройная, сильная фигура, развалистая походка, по которой легко было узнать матроса, открытое загорелое лицо, зоркие глаза. В Александровске через двое суток сошли с парохода, купили харчей на дорогу и подались тропками вдоль Днепра на Дубовку. Большую часть дня отлеживались в тени. Шли ночью, утрами и вечерами. Сначала у Марка с непривычки ломило колени, он отставал. Угрюмый Саливон гневно покрикивал на него.
Максим остался в Лоцманской Каменке. Саливон, Петро и Марко пошли дальше. Впереди, с палкой в руке, шагал дед, за ним матрос, Марко шел последним. За Варваровским лесом вечером они услышали старческий тонкий плач. Под сосною сидел кобзарь и горько рыдал, обнявши рукой бандуру.
— Чего ты, сердешный, убиваешься? — спросил Саливон.
— Покинул меня, люди добрые, внук, ой покинул, один я теперь, один! — всхлипывал старик. Он был горбатый, худой, в высокой смушковой шапке и свитке.
— Ишь какой! — заорал Саливон. — А один, без внука, не проживешь?
— Братцы вы мои, так ведь он глаза мои, звездочка моя путеводная. Я слепой… куда пойду? Куда?