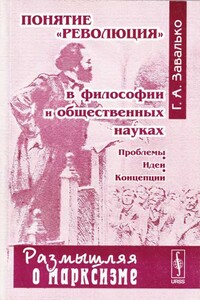В поисках темного Логоса | страница 57
Эти соображения подводят нас вплотную к важнейшему моменту: русская философия, начавшись в софиологии В. Соловьева, прервала свое начало в самом процессе его начинания. Русский Логос начал рождаться как София. Его предчувствовало все мыслящее русское общество. Это предчувствие было тонко и глубоко проработано и прожито в культуре Серебряного века. Серебряный век был продолжением того же длящегося рождения, начинающегося начинания русской философии. В этот насыщенный смыслами, озарениями и интуициями плодотворнейший период русской культуры длилось начало русской философии, но… точка необратимости пройдена не была. Логос уже показался из-под археомодерна, из ноктюрнической глубины русского бессознательного, русского сумеречного мышления, лучи Софии ощущались почти телесно, сопрягались с тайной Руси, с ее историей, насыщали воздух начала ХХ века предчувствием и близостью События (Ereignis). Но вместо момента настоящего рождения пришел 1917-й год, а через пять лет философский пароход увез на Запад тех, кто были ответственны за это рождение, а остальные постепенно сгинули в кровавом кошмаре революции, гражданской войны и строительства социалистического мира.
На этом трагическом аккорде завершился третий урок философии, который получила Россия. На этот раз к рождению полноценной русской философии мы подошли как никогда близко. Вплотную. Но история повернулась таким образом, что Русский Логос, почти родившийся, почти вышедший на свет, оскользнулся и снова скрылся из виду в бесконечной и охранительной утробе народного интеллектуального сна.
Бронзовый век и философская ночь
Интеллектуальный сон русских длился все советское время, когда большевики установили идеологическую плиту своеобразно истолкованного марксизма над русским обществом, ввергнув его в новые изощренно изматывающие практики археомодерна. Но на сей раз западничество было представлено в форме экстремистской версии левого гегельянства, смутно резонирующего, впрочем, с некоторыми интеллектуальными вибрациями, разбуженными русской религиозной философией. Русская стихия перетолковала марксизм в своеобразном холистско-эсхатологическом ключе, но это также не нашло никакого систематического выражения, и интуитивный национал-большевизм 1920-х и начала 1930-х годов не был оформлен в нечто целое — ни в эмиграции, ни в СССР. Попытки русских философов софиологического толка (П. Флоренский, Л. Карсавин и т. д.) или федоровцев сотрудничать с большевиками, ища компромиссов с марксизмом, успехом не увенчались. Через семьдесят лет этот интеллектуальный кошмар, не лишенный, впрочем, некоторых самобытных и даже героических моментов, исчез, не оставив никакого серьезного следа в духовной жизни народа, кроме трех поколений безнадежно загубленных для мысли ментальных инвалидов. В начале 1990-х поголовно прошедшее марксистскую подготовку население страны не могло вспомнить или применить на практике ни одного тезиса или постулата марксизма: абсолютный авторитет Маркса и Ленина без малейшего сопротивления были заменены на столь же абсолютный авторитет Адама Смита и учебника по маркетингу. Практически никто очередной радикальной смены идеологических вех на прямо противоположные в России вновь не заметил: те, кто возмущались реформами, поступали так по материальным соображениям, из консерватизма или по инерции. Марксизм исчез, как исчезает дым.