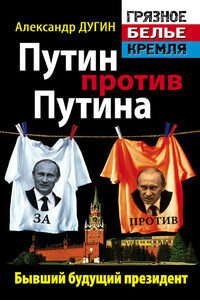В поисках темного Логоса | страница 48
Основными силовыми линиями философии В. Соловьева являются три идеи:
• учение о Софии;
• учение о всеединстве;
• учение о богочеловечестве.
Для того чтобы привести определенные параллели, можно сказать, что все они прямо или косвенно имеются у Шеллинга и составляют особенность его философии. Но Соловьев излагает и интерпретирует их весьма оригинально и самобытно, а его применение этих идей к русской истории и рус-скому обществу, так же, как и к более масштабным вселенским процессам, встречается только у него.
София: женский Логос как русский Логос
Образ Софии является квинтэссенцией мысли Владимира Соловьева. Конечно, если рассматривать контекст западноевропейской философии XIX века, то такая прямолинейная концентрация философского внимания на архаико-мистическом образе не могла не показаться странной: ведь в случае Соловьева речь шла не об исследовании Софии, например, в истории христианской традиции и мистики, но о прямом призыве мыслить о ней в качестве основного и приоритетного объекта философского внимания. Усвоение уроков Платона и отчасти русской религиозной традиции, вполне усвоенные Соловьевым, а также знакомство с философией немецкого идеализма, никак не приблизили первого русского философа даже к предварительному понимаю того, что происходит в философском пространстве Запада и какие процессы там активно развиваются. А ведь Соловьев был современником Ницше, и если не знать этого хронологического зазора, можно подумать, что их разделяют века.
Анахронизм Соловьева сразу бросается в глаза, когда он начинает говорить о Западе, где, впрочем, он неоднократно бывал и посещал философские лекции и диспуты. Может сложиться впечатление, что он представляет Запад как продолжение католического Средневековья — только с некоторыми добавлениями свободных (либо мистических, либо индивидуалистических) течений мысли. В. Соловьев не замечает Модерна, не обращает внимание не пропорции и этапы трансформации западного Логоса. Иногда можно подумать, что он грезит либо бредит. Столетия рационализма, научная картина мира, субъект/объектная топика картезианства, кантианский скепсис, позитивизм и утилитаризм, секулярность, либерализм и индивидуализм, давно уже составляющие норму западноевропейского общества, проходят мимо внимания Соловьева. Он перебирает эти явления отстраненно и мечтательно, игнорируя, что они предельно конкретно и агрессивно, безапелляционно и холодно направлены против самой возможности строить философию на мистической интуиции и тем более на прямом видении образа Святой Софии. Соловьев даже не особенно активно полемизирует с Западом, видя в нем лишь абстрактную множественность, рассеянность, которую необходимо собрать в нечто цельное и единое. Это напоминает то, как мечтательно грезит теленок, которого ведут на убой.