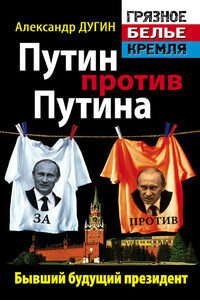В поисках темного Логоса | страница 37
Здесь мы имеем дело со вторым уроком философии, напрямую вытекающим, впрочем, из первого урока, основанным на нем. Через крещение Руси, создание церковнославянского языка и разработку соответствующего богословского и философского тезауруса, благодаря переводу священных текстов и сопутствующих фрагментов греко-византийской культуры, спустя шесть веков последовательной расширяющейся и углубляющейся христианизации русские в XV веке оказались в положении главного (а в социо-историческом смысле — единственного) носителя всей этой традиции, вбирающей в себя как ветхозаветную и новозаветную историю, так и греческую философию. Русский царь виделся продолжателем византийских монархов (морганатический брак Ивана III с Софией Палеолог, бабушкой Ивана IV), а значит, предстоятелем Рима (Византия и была прямым продолжением Рим-ской Империи и ее жители называли себя «ромеями», римлянами») и защитников вселенского христианства, которое после раскола 1054 года самими православными отождествлялось исключительно с православием. Если раньше русские были соучастниками византийского Логоса, то теперь они становились его эксклюзивными носителями; если раньше они были «одними из», но теперь превращались в «единственных наследников». Принятое наследие требовало глубинной ассимиляции и вступления в права Логоса, т. е. рождения русской философии.
Суть второго урока философии состояла в том, чтобы взять на себя полную и единоличную ответственность за усвоение первого урока. Русским предстояло сдать исторический экзамен на православную субъектность перед лицом конца времен.
Как был усвоен этот урок? Это очень трудный вопрос. Если мы внимательно присмотримся к той эпохе и к смыслу событий последующих за ней эпох — Смутного времени, первых Романовых, раскола и реформ Петра, — то обнаружим множество признаков напряженной работы духа, которая шла в русском обществе в период от Ивана III до конца царствования Ивана IV и в примыкающие к нему непосредственно годы правления Бориса Годунова (вплоть до установления на Руси Патриаршества в 1589 году). Напряженный и насыщенный спор иосифлян с нестяжателями, подъем ересей, поиск места России в истории, политическая философия Ивана Пересветова, реформы и особенно письма Грозного, а также сложенные им стихиры, его коронация в царя, деяния Стоглавого Собора, опричнина, интеллектуальные усилия рус-ского монашества, выяснение отношений между царством и священством, весь эсхатологический стиль искусства и зодчества той эпохи и, наконец, установление Патриаршества — все это фрагменты становления русской философии, напряженное освоение второго урока, воплощение его жизни. Так как мы сегодня, при нашей полной исторической и философской дезориентации, просто не знаем, чего искать в этой эпохе, то мы ничего там и не находим. Стоит только четко уяснить, что стоит в центре этого периода, осмыслить его как попытку русских освоить Логос, начать философствовать, принять на себя историческую субъектность, как мы немедленно распознаем логику, связь и когерентность этого времени, без труда усмотрим, как между собой были связаны, на первый взгляд, разрозненные и хаотические ее элементы — в богословии, политике, обществе, культуре, войне и дипломатии. Это был рывок русских к субъекту, решительный и чрезвычайно трудный, окрашенный в тревогу и кровь бросок к русскому Логосу.