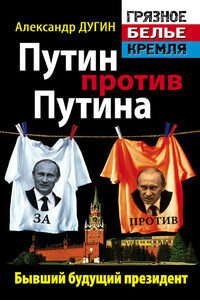В поисках темного Логоса | страница 25
И хотя наша современная наука, культура и литература, а также сам язык, его грамматика, его правила и его структуры полностью построены на принципах привативности, это остается лишь социально-филологическим фасадом, за которым стоят намного более весомые и фундаментальные архаические и средневековые интерпретационные матрицы, основанные на радикально ином режиме бессознательного. Не русский день осмысливает русскую ночь (или отрицает ее), но русская ночь перетолковывает русский день, интерпретируя солнце как «очень ярко светящую Луну». В духе эллинского культового выражения: «Дионис — это солнце ночи».
Изучение русского языка
Многоуровневый подход к семантике современного русского языка требует от нас при его изучении знакомства с основными пластами его истории. То есть для корректного понимания необходимо знать одновременно три языка — архаический, средневековый и понятийно современный. Их последовательность в отличие от европейских аналогов не является диахронической (пусть не полностью, а хотя бы в критической пропорции). А это значит, что старая семантика сохраняется и в новом языке. Следовательно, любое (!) высказывание на современном русском языке может быть (и для корректного его понимания должно быть) разложено на трех семантических плоскостях:
• на уровне глубинных народных архаических эквиполентных структур (где преобладает радикальный эвфемизм и антифраза: это ключ к выявлению иронического ядра, столь часто присутствующего в русской речи);
• на уровне градуальных иерархий (где следует искать вертикальную симметрию, онтологический полюс полноты, а также тонкую диалектику, динамическое опосредование и различных медиационных акцентов — т. е. «магического помощника» волшебной сказки);
• на уровне привативных оппозиций и понятий (что соответствует формальной структуре высказываний без учета риторических фигур).
Важно, что это герменевтическое правило касается не только литературных и художественных текстов, но и публицистики, и даже до определенной степени правовых актов и официальных указов.
Если учесть, что прививка неоплатонической иерархичности мышления вплоть до настоящего времени не смогла полностью вытеснить эквиполентность (мистический ноктюрн), т. е. диалектически «снять» его (в гегелевском смысле), то Средневековье окажется не позади нас, а впереди. В этом смысле предложение Н. Бердяева о «Новом Средневековье» окажется не реакционной ностальгией, но единственно реалистичной и социальной ответственной программой футуристической модернизации. В этом смысле изучение древнегреческого, церковнославянского языков и «Закона Божьего» могут стать важнейшим инструментом модернизации российского образования.