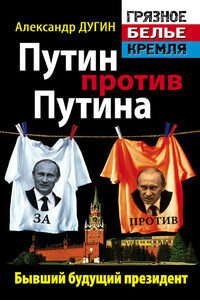В поисках темного Логоса | страница 22
Если в эквиполентной паре не- указывало на другое наделенное автономным бытием и дедуктивно связанное с данным бытие (вспомним пару «клен»/«неклен»), если то же самое «не-» означало «недо» в градуальной топике, то в привативной грамматической системе «не-» автоматически вводит «ноль» как «ничто», как «бездну», как «дыру» в ткани бытия, запуская в ткань языка «ужасающую силу негатива» (Гегель).
Шизоморфный режим воображения, систематизированный Ж. Дюраном, дает нам новый взгляд на структуру привативного языкового строя, характерного для самой грамматики Модерна.
Археомодерн
Аристотелевский дух лежал и на самом искусственно созданном церковнославянском языке (через грамматику), а также воспроизводился в многочисленных пересказах — например, в переводах Иоанна Дамаския, и бесчисленных трактатах по космологии, грамматике, риторике и т. д., которые привлекает в своем исследовании В.В. Колесов. Это означает, что и древнерусский язык, и соответствующая ему культура также имели с самого начала письменного периода вкрапления зачаточной привативности.
В период X–XVII веков на официальном уровне преобладала градуальность. А начиная с Алексея Михайловича, раскола и особенно с эпохи Петра Первого русская аристократия совершила рывок модернизации и стала активно и массированно копировать западноевропейское понятийное мышление, т. е. чистую и развитую к тому времени в Европе привативность. На первых порах (да, в некотором смысле, и до конца царской эпохи — 1917 года) несоответствие привативного научного мышления Нового времени и средневековой природы русского языка решалось через активное насаждение в дворянской среде иностранных языков. Но постепенно с начала XIX века европейская концептуальность Нового времени стала настойчиво проникать сверху и в русский язык, глубоко трансформируя его естественно сложившиеся структуры. Филологи обычно датируют появление современного русского языка (русского языка эпохи Модерна) с Пушкина и отождествляют это с моментом рождения русской литературы.
Но здесь следует снова внимательнее посмотреть на тайминг соответ-ствия трансформаций русского языка в его структурных параметрах и аналогичных процессов в зоне западноевропейских языков.
То, что существует определенная асинхрония между ритмом развития западноевропейского общества и общества русского — это общее место. Это признают все. Но каковы параметры, масштабы и качественные аспе-кты этой асинхронии?