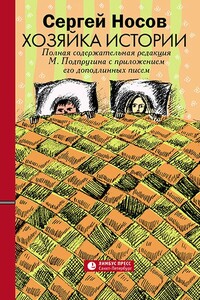Время своих войн 3-4 | страница 35
— Был конь, да изъездился, — говорит о себе Седой.
Как же! За Седым, когда разгон возьмет, не угонишься, словно склероз у него — забывает, что можно и отдохнуть.
— В молодости пташкой, в старость — черепашкой, — говорит Седой.
Ох, прибедняется!
— Горы крутые, ноги худые…
Не верят — попробуй за таким по лесу походить — взопреешь!
Поднялись на очередной гребень. Внизу из брусничника поднялся глухарь и залихватски, ухая в такт крыльев, пронес свою тушу меж сосен по ложбине, упав где–то за краем в невидимом глазу месте. Именно так, нарушая законы природы и человеческие (а каждый подержавший в руках тушу глухаря с уверенностью скажет, что такая птица летать не может), нажравшийся до отвала брусники, оставляющий за собой… кхм! Вот Миша, к примеру, подумал об ИЛ‑76, тоже непонятно каким наговором летающем, несущем, да рассеивающем где придется, 126 мужиков в амуниции, уплотненных, что те ягоды в глухаре… И спустя минуту, усмехнувшись, подумал о причудливости человеческого воображения или человеческого ассоциативного мышления, как сказал бы Извилина (не преминув, впрочем, похвалить Мишу — он всегда хвалил за умение подмечать).
Сашка нагнал, привычно провел цель с упреждением, зная, что скорее всего попал бы, сожалея, что стрелять нельзя: не проверишь, не докажешь.
Седой, поднявшийся раньше, отметив глухаря как нечто привычное, не проводив краем глаза полета, повторно прощупал цепкими глазами направление, подходы–отходы, ища несуразицы и надеясь, что если есть что–то на той стороне не от природы, а от человека, оно себя проявит — не может не проявить. Окунаясь мыслью за следующий лесной гребень и следующую ложбину — раз уж пришлось идти этот кусок столь непутево, таким чистым сосновым боровым лесом и «поперек», не по его хребтам, что вздыбил когда–то ледник и сгладило время, которые торчали теперь на их пути, были мелкими, частыми и могли — каждый! — скрывать за собой… Но это — будь война! — понимал Седой и понимал, что увлекся, что нет здесь войны, что сложится она не такой, не здесь, но поступал как привык поступать, как въелось в кровь, в сущность, в природу, частью которой он теперь был. То же самое делает волчица, переводя своих подросших, но все еще недостаточно смышленых волчат на новое место.
Седой ведет за карпом. Сперва местами, где лягушка соловью в укор (иного пения не слыхали), теперь такой чистой, открытой глазу красотой.
Еще давеча, когда в ночь на Илью впервые за две недели не выпала роса, Седой, до сих пор уверенно предсказывающий «ведро», засомневался и на вечер пообещал ленивую грозу. Но успели. И шалаш успели, и всякого другого сну полезного — обиходились! Сварили на костерке тройную уху. Такую, что по утру в котелке застывает на заливное, хоть вверх дном переворачивай, не сольется — уляжется. Хлебали уже в шалаше, слушали скрип деревьев, смотрели на дождь…