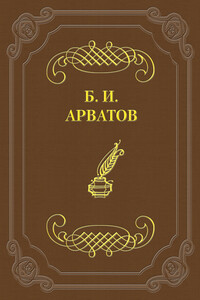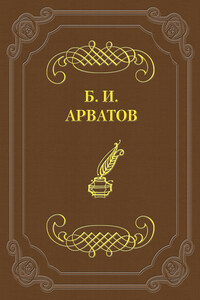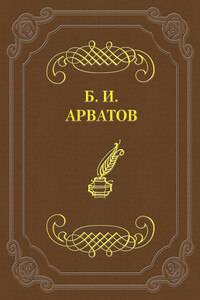Речетворчество | страница 3
Ошибка критиков сводится к следующему.
Любой жизненный акт реализуется в строго определенной среде и в полной зависимости от нее. Иначе: всякое единичное явление целиком определяется в своей функции наличным массовым, всеобщим и узаконенным шаблоном явлений того же типа. Точно также всякая произносительно-звуковая композиция неизбежно воспринимается на фоне данной языковой системы, тем самым входит в нее, как новый элемент, подчиняется всем нормам и оказывается действенной только потому, что мы ассоциируем с ней привычные формы нашего речевого творчества.
В этом смысле никакой чисто-фонетической формы нет и быть не может. Та или иная комбинация звуков непременно связывается с привычными для этих звуков и для подобных комбинаций смысловыми значениями, с аналогичными морфемами и т. д. Вот от чего «заумь» не фонетическое, а фонологическое (термин Якобсона) и даже морфологическое явление.
Третьяков правильно пишет о работах Крученых (см. «Бука русской литературы», М. 1923 г.):
Нашумевшие «стихи»:
и т. д.
осознаются, как ряд основ, приставок и пр. с определенной сферой семантической характеристики (булыжник, булава, булка, бултых, дыра и т. д.).
Иными словами, заумные формы обладают свойствами той языковой системы, к которой они причислены. Это целостные речевые факты, формально не отличающиеся от наличного языкового материала. Для того, чтобы это подчеркнуть, я беру слова «заумь», «заумный» и пр. в кавычки: бессмысленное, абсолютно заумное речение невозможно. Личность – продукт и кристалл коллектива, и каждое проявление ее жизнедеятельности социально; «непонятное» бормотание сонного или вскрики сумасшедшего – социальны, как обычный разговор о сегоднешней погоде. Все дело лишь в степени нашего понимания – в количественной, а не качественной разности (родители лучше понимают «заумь» своих детей, чем посторонние).
Когда к «зауми» относят такие слова, как Шошоги, Мурсал, Унион, дрыск, – это вызывает недоумение. Однако, реально, практически для современности совершенно безразлично, создана ли данная форма заново (напр. «кроча»), образовалась ли она исторически (напр. «Иван») или перенесена из иностранного языка («Мурсал»); и в том, и в другом, и в третьем случае форма используется «заумно»; единственное условие, нужное для такого использования – социальное признание. «Иван» – общеизвестен, как русское мужское имя; «Унион» – общеизвестен, как иностранное слово; «дрыск» – по контексту распознается, как фольклор и т. д. Важно лишь, чтобы данная форма была отнесена к какой либо языковой системе, и этого вполне достаточно для ее социальной годности. Крученых был поэтому прав, когда писал о национальности своего «дырбулщыла», – здесь, и только здесь мог крыться базис объективной значимости данной «зауми».