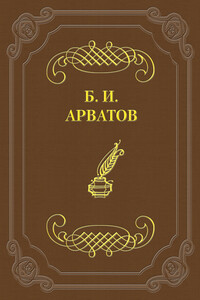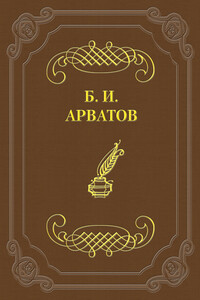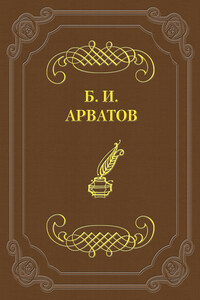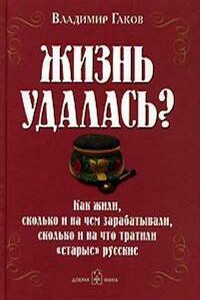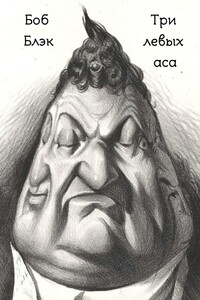Контр-революция формы | страница 9
(получается: «вековниц» или «нициростерта», т. е., «ниспростерта»).
(получается: «зовбури», почти «совбуры»).
И пр.
Сюда же относятся такие противоречия между метром и синтаксисом, как в следующей строке:
Обращение «серп» проглатывается, сливаяся со следующим словом.
Метр не только извращает ритм живой речи, но и ее порядок (последовательность слов в предложении). Раз поэт заранее предопределяет ритмическую структуру языка, безотносительно к его материалу, раз он при этом только повторяет уже использованные каноны, – ему ничего не остается, как подгонять порядок слов под готовую схему, т. е., не считаться с реальными потребностями языковой композиции. Т. н. инверсия[2] существует у всех поэтов без исключения.
Что же касается до Брюсова, то и тут он только копирует, архаистически копирует давно узаконенные, эстетно-фетишистические формы.
Например:
(Намеренно отодвинуто в конец приложение «Поэт»).
(Кроме порядка слов, интересно, что дополнение «ею» превращено ради метра в архаическое: «ей»).
(нормально следует: «Ты» любишь свисты……
(Надо было бы как раз наоборот: «от рдяных желаний солнц»).
Ставить подлежащее после сказуемого, определение после определяемого слова и т. п. считается в поэзии знаком подлинного художественного творчества. Сознание эстета не может понять, что эти приемы выработались в свое время естественно и органически, и лишь затем, укрепившись в поэзии, были сочтены за ее абсолютное, всегдашнее, вневременное и внепространственное свойство. И если сейчас поэт считает своим долгом повторять традиционную инверсию из-за ее «красоты», если для него писать стихи это значит рассчитывать на потребителя с консервативным, «эстетским» вкусом, – то такой поэт воспитывает только одно: метафизическое, контр-революционное отношение к своему творчеству.
IV. Бегство от революции.
Брюсов, как поэт, вырос не в борьбе с буржуазией и ее эстетическими традициями, а как их канонизатор. Школа, к которой он принадлежал, школа т. н. символистов в свое время сыграла исторически прогрессивную роль тем сдвигом, который она произвела в системе русского стиха (vers libre, ассонанс и т. д.); но Брюсов занимал тут лишь посредствующее место, – он перебросил с Запада в Россию эстетические лозунги тамошнего поэтического движения, и в этом смысле был тогда, несомненно, передовой фигурой в русской поэзии (90-ые, 900-ые годы); в остальном он является типичным декадентом-архаистом, поэтом упадочной буржуазии. Таким он остается и сейчас, но уже лишенный той положительной функции, которая была им выполнена когда-то и которая давно отменена новейшими достижениями русской революционной поэзии. Для нашего времени брюсовское творчество – сплошная, не знающая исключений реакция.