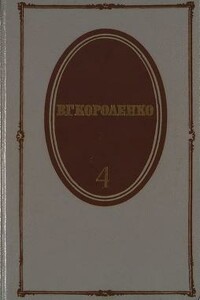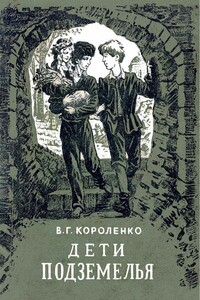Художник Алымов | страница 28
– Но вы…
– Опять уклоняюсь. Да, так вот. Романыч показался мне самым интересным. Читал он страшную массу, можно сказать – ломил через всю эту премудрость, точно медведь сквозь чащу. Многое понимал своеобразно, но, в конце концов, понял все не хуже других, одолел даже до известной степени философскую терминологию. Пробелы, разумеется, остались у него огромные. Ну, да ведь и мы тоже все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Интереснее всего в нем все-таки было это изумительное упрямство. При моей слабости к бытовому я помирился с ним именно на этой черте. Я, признаться, не люблю оборотней, с вылинявшей природной окраской, и часто ловлю себя на некотором инстинктивном нерасположении ко многому «новому». Умом-то, пожалуй, и признаю и содействовать готов, а в сердце – копошится какое-то сожаление к уходящему с его определившимися, устоявшимися бытовыми формами. Не могу, например, подумать без некоторого щемящего сожаления о том, что скоро на Волге исчезнет последняя коноводка, а когда представлю себе, что и Волгу когда-нибудь схватят в каменные берега, скучно становится… Должно быть – консерватизм художественной натуры. Поэтому некоторое время с Романычем нас разъединяла какая-то взаимная антипатия. Вероятно, я казался ему слишком уж «тонким», а он мне – опустошенным и обезличенным, лишенным всякой непосредственности. Я, верно, чувствовал в нем «ненастоящего» мужика, а он был уже настолько ненастоящий, что его это сердило. Однако скоро я увидел, сколько еще осталось своего, мужицкого, в этом неуклюжем обломе, с такой свежестью непочатого ума и с такой нерастраченною энергией ломившего через дебри науки… А главное, что меня к нему окончательно привязало, это то обстоятельство, что из всех этих фантазеров, мечтавших о полном слиянии с народом, он был самый мечтательный, самый фантастический…
Г-н Алымов задумался. Лица его я не видел, но мне казалось, что на этом лице должна была бродить улыбка.
– Все они или почти все были с сильной трещиной. Это тоже меня к ним привязывало, – эта черта русского интеллигентного человека по преимуществу. Вы понимаете, о чем я говорю?
– Не совсем.
– Кто-то, помнится – Гейне, выразил это очень красиво: мир дал трещину, и эта трещина пришлась мне как раз по сердцу…
– Как видно, – засмеялся я, – специально русскую черту выразил немецкий еврей…
Он тоже засмеялся.
– Правда! Ну, мне все-таки кажется, что мы это чувствуем яснее. Трещина эта отделила нас от нашего народа, а при отсутствии у нас разных закрывающих ее исторических сооружений она зияет как-то разительнее. – Француз, немец, англичанин находит себе все-таки много утешений, ну, наконец, они хорошо строят мосты… А у нас нет всех этих украшений. Трещина сочится и беспокоит, а в молодости особенно. Помните, у того же Гейне: «Кто скажет, что у него сердце цельное, – у того дряблое, прозаическое сердчишко…» Ну, вот у них сердца были не дряблые, и они все копошились, как муравьи, чтобы найти путь через трещину к своему народу… Ах, чорт возьми, как я их и теперь люблю за эту черту, хотя она стоила мне очень много… Вы не заснули от моей философии?