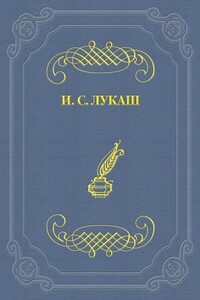Сны Петра | страница 80
Влажно зазвенела стеклянная дверь: от перчаточника по мокрым ступенькам сошли две дамы. Одна подняла сзади турнюр, виден ее белый чулок над высоким башмаком, вырезанным сердечком. Стало жалко, что тонкая кожа вымокнет на мокрой панели, в снегу, размешанном шагами прохожих.
У подворотни громадный мужик, дворник, как раз запахивался в волчий тулуп, оттуда дохнуло кислой шерстью, глубоким теплом, как из громадной печи, где преет квашня. Два кадета, лакированные кепи длинно блеснули, обогнали под фонарем, один толкнул, бодро сказал:
– Виноват.
Газовые фонари расплылись в тумане. На Мещанской колышет пар. Чавкают копыта. Безбородый извозчик выставил к тумбе валенок с кожаным задником, осклабился:
– А вот бы подвез…
Жалостно блеснувши глазом, стронулась лошадь, дымящая тень, мокрая шерсть взъерошена, дымится. Конек только что подвез седока.
Достоевский скашливает, глотая туман. В петербургской оттепели, когда кишат табуны теней, он думает, что жизнь проще и добрее всех слов, сказанных о ней. Кишенье, чавканье, сопенье в тумане – вот это и есть жизнь. Ее смысл не в словах человеческих. Она – дымящее доброе чудовище, силища непознаваемая, она вне слов человеческих, и все слова для нее – бессмыслица.
Поискал в кармане портсигар, вспомнил, что табак в жилете. Столкнул на затылок мокрую лисью шапку:
– Так, так…
Холодок внезапного восторга пронзил спину:
– Конечно, так… Жизнь, смерть, Бог… А самая-то отгадка не в словах. У апостола Павла, к Коринфянам, прямо сказано: «Бог не в слове, а в силе…» Вот она, силища… И – Россия… Разве можно разгадать словом… Для нее все наши слова, все мысли, – бессмыслица.
Крупными пальцами нажал газетный сверток под мышкой: расползлась мокрая бумага. В снег выпал шерстяной носок.
Достоевский сердито поднял носок, встряхнул. Зашагал, сильно отмахивая костлявой рукой.
Подворотня торговых бань уже тускло пылала в тумане, как большой костер. Низко над панелью полз пар. В подворотне стало тепло.
За кассой торговых бань, в чуланце, сидит молодая баба, закутанная в байковый платок, громоздкая, как бы втиснутая в чуланец.
Лицо у бабы удивительно тонкое, прозрачной белизны. Красиво и строго взлетает соболиная, в росинках, бровь.
Продолговатая, не очень чистая рука выкинула на прилавок синий банный билетик, гривенник, медь.
И облила баба мгновенным прозрачным взглядом, и задрожали опущенные ресницы длительно и стыдливо, а прекрасное лицо едва приметно тронулось ухмылкой, темной, мгновенной. Достоевскому всегда кажется, что у бабы в чуланце чудовищные, бесстыдные мысли.