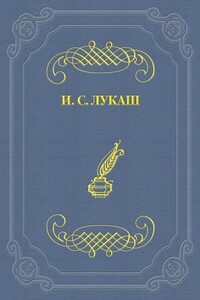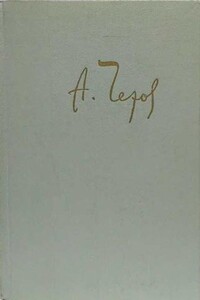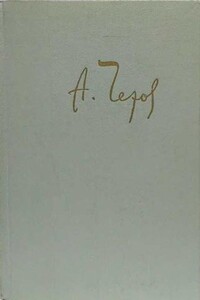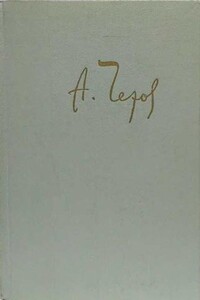Пожар Москвы | страница 78
– Эва, барин, чего осерчавши?
– Иди, – Кошелев зажал лицо в грязных руках. – Иди присягать, Бонапарту служить… Когда не стало… России не стало… А я не пойду. Я один пойду каждого их солдата, каждого – убивать…
– Да ты, барин, а, эва, барин, – каретник осклабился. – Да пошто ты, барин, один? Ты не один, вместях с тобою пойдем….
XXIII
Из Москвы до вшествия Наполеона выехало все высокое барство, высокое чиновничество, все, кто имел экипажи, дворовых и лошадей, но Москва далеко не опустела от того, что снялись комиссариаты и присутствия и что из города выехали сотни помещичьих семей.
Не только колодники и сумасшедшие, выпущенные Ростопчиным, остались в Москве, а и все простонародье, мастеровщина, барские дворовые, ремесленники и с ними больше десяти тысяч раненых из полков. В Москве остались и многосемейные попы, и многосемейное купечество – вся та разночинная, полубарская и поддворянская Москва, у которой не было лошадей и людей, чтобы поднять свой скарб. Об этой Москве граф Ростопчин говорил в Филях 29 августа Светлейшему и Ермолову, что «в Москве остается только 40 или 50 тысяч беднейшего народа», и добавил, что «если и без сражения мы оставим Москву, то вслед за собой увидим ее пылающую».
В Москве остались лекаря, учителя университетского пансионера, семинаристы, комиссариатские чиновники, актеры Московского театра, музыканты, типографские мастера.
Такая Москва хоронилась теперь на пустырях и в сгоревших садах.
Воспитательный дом скоро стал посылать по подмосковным своих канцеляристов с «открытым листом» «о спасении более тысячи несчастных детей, дабы не умереть им голодной смертию».
Такая Москва, уцелевшая от пожара, расстрелов, грабежа, умирала теперь голодной смертью. На опустошенных огородах люди не выкапывали больше картошки, коченели от ночного холода в шалашах и под рогожей.
С такой Москвой остался и солист Московского театра скрипач Поляков и виолончелист того же театра Татаринов.
Оба они жили на Певчих, один над другим. Поляков вывел из огня своих, вынес тюки и корзины, а Татаринов успел вынести только виолончель.
В одной рубахе, босой, с виолончелью, Татаринов вышел на Девичье поле.
Скрипач Поляков прилаживал к шесту дырявое одеяло, когда Татаринов подошел и сел на корзину, поставив между колен черный футляр. Поляков оглянулся угрюмо.
– Ты, Татарок? Жив, стало быть… Видно, тебя, брат, под корень хватило. А беда, самим нечем прикрыться… Однако, постой.
Скрипач подлез под мокрое одеяло и стал там шептаться. Его жена, в солдатской шинели, чепец набух от дождя, выглянула из-под одеяла, бледно и приветливо улыбнулась знакомому музыканту. Но Татаринов смотрел далеко в поле.