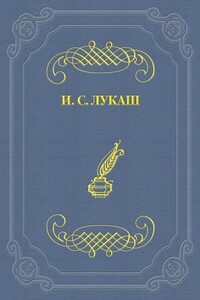Пожар Москвы | страница 63
Каретник наклонился и послушал его короткое, прерывистое дыхание:
– Никак купец Коробеев?
Монастырка так оправила свой колпачок, точно угнетал он ей голову и ответила тихо:
– Батюшка мой.
– Как же, признан: Савва Андроньевич, москательщик… Вот и купец, вот и дочь ихняя, Параскева… Да пошто же ты с батюшкой в поле?
Светлые, горячие глаза монашенки на мгновение остановились и на Кошелеве…
– Да когда пожар. Нынче помочи подать некому. Наша улица занялась, молодцы понесли батюшку в Новодевичий. А тут народ по полю побежал, заметался. Вот бросили постелю.
– Беда, а приказчики куда подевались?
– Стало на поле жаром кидать, наш кожевенник мне говорит: «Ты, Параша, – мне говорит, – тут погоди, а когда затопили Москву, и мы огонька подкинем».
Кошелев в жалостном восторге смотрел на эту невысокую черничку, похожую на отрока.
– Но вы инокиня, – сказал он наконец.
– Я белица, не инокиня: на послухе, по обету, за болящего батюшку.
– Хорошо. Но тогда мы ведь можем понести вашего батюшку в Новодевичий: там должны его под крышу принять.
– Думаю, барин, все полно и не примут. Больных-то и старых из огня сколько вынесли. Вот кабы были вы, барин, так хороши, дошли бы до матушки Ифигении дозволения испросить.
– Можно, конечно.
Подумал: «Ифигения, трагедия древних, Эдип ослепленный, такого имени быть не должно. Полагаю, Евгения».
– Пойдем, Эдип ослепленный… Тебе говорю, Евстигней… Пойдем к Ифигении: я дороги не знаю.
Каретник мотнул головой и бережно опустил черничке на руки спящего ребенка.
XVII
В сумраке утра Девичье поле открывалось, низкое и дымящее, как болото.
Люди лежали и сидели вповалку. Люди тенями бродили в тумане, искали чего-то, пригибаясь к земле. В грязи серела мокрая подушка, стоял на корзине самовар красной меди. Выпростанное белье уже было в мокрых отпечатках ног.
У мешка с сахаром дворовые выгребали горстями желтоватую жижу, надо думать, делились. Мешок подтаивал и сочился.
Мужик в белом армяке лежал в лужу лицом, не то пел тоненько «и-и-и», не то плакал.
Потерянная борзая из барской своры с оборванным кожаным ошейником в бляшах, сфыркивая и поджав хвост, на трех ногах заковыляла от них в туман.
В луже стоят образа, прислоненные друг к другу, лики мокрые, темные, течет струями пар по тусклому золоту риз.
Бабы, накинув салопы на головы, сидят на сундуках, купцы, высоко подторкнув полы кафтанов, бродят между корзин, стоят в грязи и горестно шепчутся, приблизив друг к другу брадатые, черные от копоти лица.