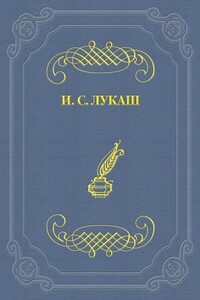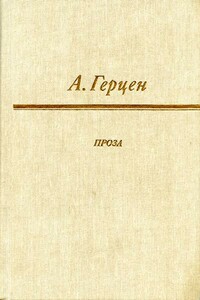Пожар Москвы | страница 37
– Барина привели, – крикнул костлявый в бескозырке. – Ей-Богу, охвицер.
– Офицера привели…
– Какого, вашбродие, полку?
– Сюды пожалуйте.
Кошелев сел на мокрую солому. Солдат с жесткой головой, – Кошелев заметил на его мундире бляху квартального, – мигая морщинистой щекой, заботливо стал подгребать ему под ноги солому:
– Туточки ножки, ваше благородие, укладите, туточки соломку собьем.
«Народ», – подумал Кошелев с брезгливой тошнотой и страхом. Он лег в солому лицом и вспомнил внезапно, как давно, где-то, кажется, в Петербурге, слушал ночью невнятные и страшные голоса за дощатой перегородкой. Точно теперь проломило ту перегородку, и вот он в подвале, с чернью, с Филькой-каторжным, на соломе. Он крепко сжал веки. Скоро говор смешался для него в унылое заупокойное пение.
Очнулся он уже в холодных потемках, когда подвал полег в тяжелом храпе и сонном стенании. Он очнулся потому, что кто-то шарил по груди и у шеи, отстегивая шнур его складня.
Рядом с ним сидел на корточках белокурый человек в синем фраке с белыми пуговицами. Глаза человека внимательно смотрели на него.
– Чего надобно, сударь, чего шарите?
Человек во фраке показался Кошелеву барином.
– Пашпорт, какой полковой документ, – вкрадчиво прошептал белокурый. – И мундирчик следоват скинуть: француз, он живо признает, – убеглый… Извольте, сударь, полушубочек принять, рваная, правда, овчинка, дерьмо, а все скроет.
Человек в синем фраке помог Кошелеву стянуть мундир. Были неприятны касания его больших теплых рук.
– Вы не знаете, куда меня вечор привели? Кошелев поежился под жесткой овчиной.
– На заставу, в ошару… Да меня выкать не к чему. Я барский слуга, дворовый его светлости князя Щербатова, подбуфетный, звать Ларькой. Как барство столицу покинуло, мы тут оставлены… Когда надобно что, так и покличьте: Ларька, да Ларька. Не сумлевайтесь, сударь, я завсегда.
– Благодарствую.
– Вот овчинка моя и понадобилась. Пашпорт ваш, сударь, дозвольте.
– Да у меня нет.
– А, когда нет, так и нет…
Ларька принял в охапку мундир и подвинулся.
Этот вежливый слуга с бабьим голосом стал неприятен Кошелеву. Было противно его дыхание, отдающее вином, и его посапывание, но особенно противно было Кошелеву, что он ошибся и почел Ларьку за барина.
VI
Если бы в Санкт-Петербурге в полдень, когда бьет гулкая пушка на крепости и над ясной Невой скорым облаком прокатывает румяный дым, или в те дни, когда он стоял над Невой, а ветер трепал флажки у дамбы и блистал медный шлем Афины Паллады на куполе Академии художеств, если бы тогда сказали ему, что он увидит такое небо Москвы, покрасневшее от пожара, и каторжную чернь, товарищей его московской ночи, что будет лежать с ними на вонючей соломе, в овчине, – он не поверил бы, отказался бы поверить такой своей судьбе. Все великолепные и пышные слова, которые он привык слышать, россы, северные Ахиллесы, внуки славян, идущие в брань за отечество, и то видение медной Паллады за Невой, здесь, в ошаре, казались и ненастоящими и неверными.