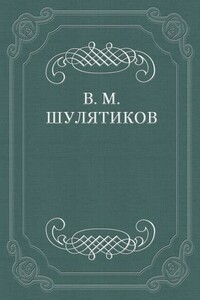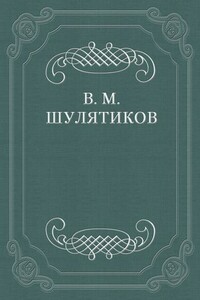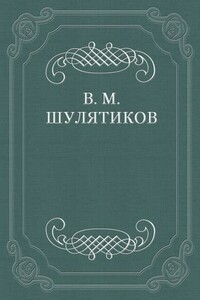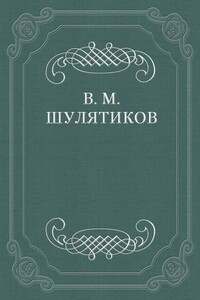Несколько слов о литературном «оскудении» | страница 5
Таков рассказ В. Брусянина о «Человеке-звере» («Мир божий», февраль) – о голодном крестьянине, старающемся устроить крушение поезда на железной дороге с целью грабежа.
Гораздо большему научится читатель из ряда рассказов, действие которых переносит его в среду, ему мало знакомую или вовсе не знакомую.
Из рассказа А. Куприна он почерпнет много сведений о быте служителей акробатического и атлетического искусства («В цирке»). Его сильно заинтересуют этнографические очерки г. Тана.
С. Елпатьевский расскажет ему о новом типе служащего – приказчике, о новом представителе трудового начала, который вступил уже на путь сознательной жизни и уже успел достичь некоторых успехов в борьбе за существование. Выведенный г. Елпатьевским тип, впрочем, не может считаться идеальным в некоторых отношениях. Его служащий слишком узко понимает интересы труда. Он видит смысл борьбы за существование исключительно в отстаивании узко личных интересов[19].
Последний рассказ, из всех перечисленных произведения, вообще способен удовлетворить читателя. По жизненности затрагиваемой им темы, по выраженному в нем стремлению ответить запросам читателя и следить за ростом текущей жизни, этот рассказ, наряду с рассказом гимназической жизни Евг. Чирикова «Иннокентий Васильич», является своего рода исключением из общего правила:
Но в общем современные беллетристы не могут многому научить читателя. Напротив, они сами только учатся жить. Они стоят перед лицом растущей жизни, как бы– в недоумении, они спешат лишь наблюдать ее, спешат передать читателю свои первые, поразившие их впечатления, отмечать, по ни выяснять, противоречия, на которые они наталкиваются…
Очень часто их внимание останавливается на явлениях и фактах, давно замеченных, давно оцененных русской литературой: это значит, что подобные факты и явления особенно часто выдвигаются ростом жизни, что, будучи оценены и взвешены теорией, в практической жизни, в жизни «толпы», в которую ушли беллетристы, подобные факты и явления играют громадную роль, составляют внутреннее содержание этой жизни.
Будучи не теоретиками, будучи людьми, вообще мало склонными заниматься строго критическим анализом действительности, современные беллетристы, отказавшиеся от «пророческой» миссии, переставшие быть «героями», по мере своего обращения в самых простых «смертных», все более и более отдаются жизни чувства.
Они сильно чувствуют, – о чем свидетельствует почти каждый из упомянутых выше рассказов. Наиболее удачны в большинстве этих рассказов именно их лирические места (особенно замечательны в данном отношении рассказы Ив. Бунина, В. Томского, А. Федорова), – они настолько сильно чувствуют, что даже те из них, которые обладают строго определенным миросозерцанием, зачастую увлекаются темами, которые с точки зрения этого миросозерцания не представляют особенного интереса (случай с Евг. Чириковым: см. его «Роман в клетке»).