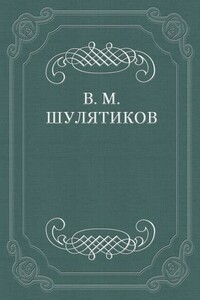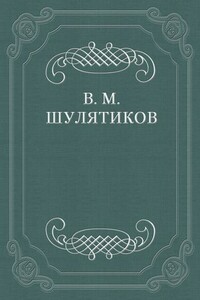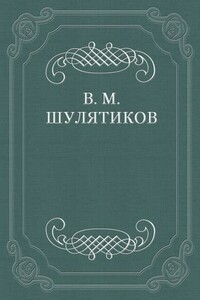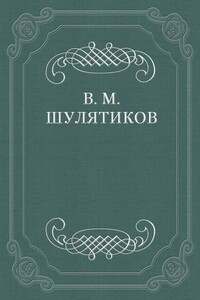«Назад к Достоевскому!» | страница 4
Цитируя данные слова, г. Булгаков делает патетический комментарий: «Душа этого человека открыта для всего великого и прекрасного!»… «.. Но… г. Булгаков, странным образом, забыл упомянуть о самом любопытном – об оценке, произведенного самим Иваном над собственными «великими и прекрасными» побуждениями. Напомним ее:
«И не от отчаяния буду плакать, – поясняет герой Достоевского, – а лишь просто потому, что буду счастлив пролитыми слезами моими. Собственным умилением упьюсь». Иван, по его словам, любит лишь проявления «первых своих молодых сил». Для Ивана, как типического эгоиста, представляют ценность лишь его собственные ощущения, чувства, эмоциональные комплексы.
Одним словом, обвинительная речь обратилась, по воле г. Булгакова, в похвальное слово, «contra» в «pro». Впрочем, если бы г. Булгаков разобрал, как следует, приведенную цитату, ему пришлось бы разрушить одну из «иллюзий», созданных идеалистической философией, – раскрыть «тайну» учения о примате автономной «личности», тайну учения о так называемом «субъекте развития». Это учение, сводящееся к апологии индивидуальных «переживание», зиждется именно на указанных «эгоистических» предпосылках.
Мы не будем здесь подробно останавливаться на других отдельных чертах миросозерцания Ивана, давших повод критику – нео-идеалисту к произнесению ряда «похвальных слов», не будем анализировать всего цикла «противоречий», которыми «болеет» герой Достоевского. Ограничимся немногим. Отметим, во-первых, общую реальную подпочву, определившую для неверовавшего ни во что «трансцедентное» Ивана требование обосновать мораль и культ прогресса при помощи санкции этого «трансцедентного». Без «трансцедентного? «Все позволено» – таково известное, излюбленное положение Ивана. Выставляя его, Иван говорил, именно, как представитель общественной группы, не участвующий активно в совершающемся росте жизни: в пределах того суженного социального кругозора, который он имел в своем распоряжении, действительно, реальная жизнь представлялась чем-то в роде «бессмысленного» хаоса, суженный социальный кругозор понижал его понятия о человечестве до понятия о сонме «диких и злых животных». Но Достоевский сообщил своему герою и смутные отголоски тех прогрессивных веяний и концепций, с которыми сам был некогда знаком, сообщил более высокую оценку жизни и человечества. В результате в душевном мире Ивана оказалось две «бездны» – два абсолютно непримиримых миропонимания. И Иван поспешил прибегнуть к способу фиктивного примирения: он объявил, что решение вопроса зависит от признания «тайны и авторитета». Решение было подсказано характером полученного им «наследия отцов»: в этом «наследии» сохранялся большой запас элементов «авторитетной» и «патриархальной» психологии.