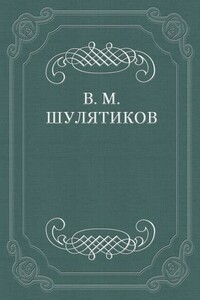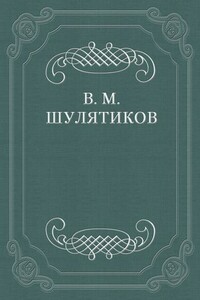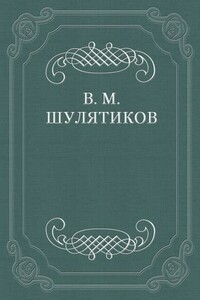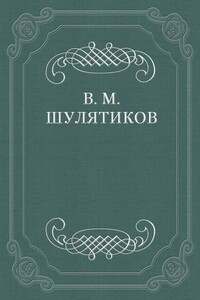Проповедник «живого дела» (Памяти И.А. Гончарова) | страница 4
В борьбе дяди с племянником отразилась и тогдашняя, только что начинавшаяся ломка странных понятий и нравов.
Фигура дяди – Петра Адуева. – этого «человека-машины», по замыслу автора повести, говорит лишь о «трезвом сознании необходимости дела, труда, знания». Вот почему «Обыкновенная история» появилась именно на страницах самого прогрессивного журнала: она отвечала общему настроению передовой интеллигенции. Тот же журнал, «Современник», несколько времени спустя. Поместил статью о «Петербургском купечестве», автор которой знакомил читателей с «неведомым» до тех пор уголком русского общества и открыто выражал свои симпатии к «новооткрытому» классу[3]. Тот же журнал, в каждой своей статье, проповедовал о необходимости трезвого взгляда на жизнь, труда, энергии и знания. Тот же журнал безбоязненно ставил на очередь вопрос о «разумном эгоизме» (в известной статье Искандера)…
Но Гончаров не стоял в самых передних рядах прогрессивной интеллигенции. В «Обыкновенной истории» он изложил самые смелые посылки своего миросозерцании. Дальше идеализации энергичного практического деятеля, дальше осуждения бездеятельности и мечтательности представителей «романтического» мировоззрения он не пошел. Впоследствии, он дважды возвращался к своему идеалу: дважды рисовал фигуры энергичных практиков: Штольц в «Обломове» и Тушин в «Обрыве» являются повторением общего типа; в их лице Гончаров снова лишь воплотил свои прежние мечты о труде, энергии и работе мысли. Он только, в их образах несколько смягчил резкие черты человека-»машины», не прибавил к его характеристике ничего существенно нового. Он только, в развитии повествования, отодвинул его несколько на второй план. В дальнейших своих произведениях он сосредоточил внимание, главным образом, на «неуравновешенных, мечтательных натурах». Радом с племянником Адуевым он поставил фигуру художника-дилетанта Райского, человека, в котором воображение вечно борет верх над логической работой мысли, который вечно отдается во власть стихийно рождающимся в его душе чувствам, вечно колеблется между самыми противоположными настроениями, который не может никогда создать ничего положительного и прочного. Такогоо же «романтика», как Александр Адуев и Райский, он вывел в лицо Обломова, человека с «чистой, как хрусталь, душой», с «чистым» сердцем, человека, которому «доступны наслаждения высоких помыслов», который «не чужд всеобщих человеческих скорбей», который плачет над людскими страданиями, но который бессилен вмещаться в практическую жизнь, который всего более любит уходить в себя и жить в созданном им мире», остается вечно рабом своей фантазии и стихийных настроений…