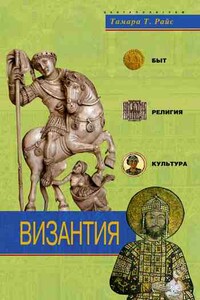Символы превращения в мессе | страница 9
F. Consecratio
Освящение в римской мессе знаменует собой кульминационный момент, пресуществление (транссубстанциацию) или превращение (преложение) Евхаристических субстанций, хлеба и вина, в Плоть и Кровь Господа. Формула освящения звучит следующим образом:
Освящение хлеба:
Qui pridie quam pateretur, accepit panem in sanctas et venerabiles manus suas, et elevatis oculis in caelum ad te Deum, Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipu-lis suis, dicens: Accipite, et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim Corpus meum.
Освящение чаши:
Simili modo postquam coenatum est, accipiens et hunc praeclarum Calicem in sanctas et venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis, dicens: Accipite, et bibite ex eo omnes, Hie est enim Calix Sanguinis mei, novi et aeterni testamenti: mysterium fidei: qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Haec quotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis (Согласно церковному эдикту, эти слова в силу своей святости не должны переводиться на профанные языки. Хотя и существуют служебники, грешащие против этого мудрого предписания, сам я все же хотел бы оставить латинский текст без перевода).
Из уважения к пожеланию, высказанному Юнгом в предыдущем примечании, текст освящения приводится нами в переводе не на русский, а на славянский, язык православного богослужения: «В нощь, в нюже предаяше Себе за живот мира, приемь хлеб на святыя своя и досточтимыя руки, воздев очи к небесем, к Тебе, Боже, Отцу Своему Всемогущему, благодарив Тебе, благословив, преломив, даде учеником Своим, рек: приимите и ядите от сего вси, сие есть Тело Мое. Подобие и чашу преславную по вечери приемь на святыя Своя и досточтимыя руки, паки благодарив Тебе, даде учеником Своим, рек: приимите и пиите от нея вси, сия есть чаша Крови Моей новаго и вечнаго завета, тайна веры, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов. Елижды бо творите сие, творите сие в Мое воспоминание».
Священник и община, так же как Дары и алтарь, очищены, освящены, возвышены, одухотворены молитвами и обрядами, начавшимися Прологом и окончившимися Каноном: теперь, в качестве мистического единства, они подготовлены к эпифании Господа. Поэтому произнесение слов освящения означает речь самого Христа, говорящего от первого лица, а вместе с тем и его живое присутствие в Corpus mysticum (мистическом Теле), состоящем из священника, общины верующих, хлеба, вина и фимиама и представляющем приносимое в жертву мистическое единство. В это мгновение становится очевидной вековечность единичного божественного жертвоприношения: она переживается в определенном месте и в определенный момент времени, но перед нами точно распахнулось окно или растворилась дверь, за которыми глазам открылось внепространственное и вневременное. Наверное, именно в этом смысле следует понимать слова св. Иоанна Златоуста: «Et vox haec semel prolata, in ecclesiis ad unamquamque mensam ab illo ad hodiernum tempus et usque ad adventum eius sacrificium perfectum efficit». [«Христос и ныне присутствует, украсив трапезу ту и украшая ныне эту. Ибо не человек, но Сам распятый за нас Христос делает предлежащие Дары Телом и Кровью Своею. Стоит священник, исполняя образ, произнося установителъные слова; сила же и благодать — Божий.] Этот глас Христа, однажды произнесенный за этой трапезой, в церквах доныне и до Его пришествия совершает соделанную Жертву» (Migne, P. G., t. 49, col. 380). Ясно, что лишь явление Господа в своем слове и сила этого слова «perfectum efficit» (делает совершенным) «corpus imperfectum» жертвы, а не подготовительные действия священнослужителя. Если бы эти последние были «causa efficiens» (действующей причиной), то обряд ничем не отличался бы от обыкновенной магии. Священник есть лишь «causa ministerialis» (служебная причина) превращения. Реальная действующая причина здесь — живое присутствие Христа, которое открывается sui sponte (самопроизвольно), как ничем не обусловленный акт божественной благодати. С этим согласуется утверждение Иоанна Дамаскина (ум. 754), который говорит, что слова формулы имеют освятительную силу независимо от того, каким священником они произносятся, как если бы изрекал их сам присутствующий при этом Христос. Дуне Скот (ум. 1308) замечает, что в установительных словах Христа на Тайной вечере содержится его волеизъявление на каждой мессе предаваться в жертву через посредство священнослужителя. Этим утверждением он недвусмысленно заявляет, что жертвенный акт совершается не священником, но самим Христом. Таким образом, agens превращения — божественная воля, действующая через Христа, и ничто иное. Тридентский собор объявил, что в жертве мессы «idem ille Christus continetur et incruente immolatur», (...тот же самый Христос содержится и бескровно в жертву приносится.) Sessio XXII. Н. Denzingcr, Enchiridion. 1921, p. 312). хотя это отнюдь не повторение исторического жертвоприношения Иисуса, но его обновленный бескровный вариант. Но раз установительные слова Таинства, будучи выражением божественной воли, обладают силой совершить жертвоприношение, то напрашивается вывод, что метафорически они могут быть названы жертвенным ножом или мечом, который, направляемый волей Божьей, и совершает thysia. Впервые такое сравнение было проведено отцом-иезуитом Леонардом Лессиусом (ум. 1623) и с тех пор прочно утвердилось в церковном языке в качестве расхожей метафоры. Опирается она на Евр. 4, 12: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого», а также, наверное даже в еще большей степени, на Откр. 1, 16: «И из уст Его выходит острый с обеих сторон меч». Теория мактации, т. е. заклания, возникла не позднее XVI в. Ее основоположник, Куэста, епископ Леон-ский (ум. 1560), утверждал, что Христос заклается священником. Так что метафора меча напрашивалась сама собой. («Missa est sacrificium hac ratione quia Christus aliquo modo moritur et a sacerdote mactatur». (Mecca есть жертвоприношение по той причине, что в ней Христос некоторым образом умирает и заклается священником.) Ср. A. Hauck, Realen-zyklopudie. XII, p. 693. Вопрос о mactatio был поднят уже Кавасилой Фессало-никийским (Migne, P. G., t. 150, col. 363 ff). Меч как орудие жертвоприношения встречается нам и в видениях Зосимы).