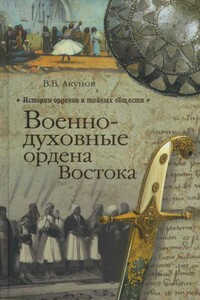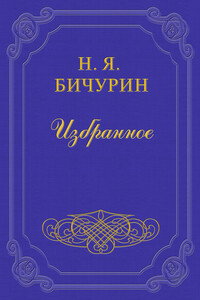Символы превращения в мессе | страница 41
Из этого сопоставления двух путей отказа Я от своих эгоистических притязаний явствует, что рознятся не только установки, но и ситуации, в которых отказ этот происходит. В пер-мом случае речь идет о ситуации, которая не затрагивает чело-мека непосредственно, не затрагивает его лично. Во втором случае, напротив, речь может идти лишь об очень личном даре, серьезно воздействующем на того, кто его приносит, заставляющем его преодолевать самого себя. Поясню на примере. В первом случае речь идет, скажем, о простом присутствии на мессе, но втором — уже о чем-то вроде принесения в жертву Авраамом собственного сына или же решения, принятого Иисусом в гефсиманском саду. Первый, наверное, может восприниматься весьма серьезно и переживаться со всем возможным благочестием, но второй-то — реален. Чтобы избежать недопонимания, мне необходимо подчеркнуть, что говорю я шшь о своем личном опыте, а не о переживании мессы верующим, для которого и жащее в ее основе Таинство обладает реальностью.
До тех пор пока самость остается на бессознательном уровне, она соответствует фрейдовскому Сверх-Я и служит источником постоянных моральных конфликтов. Когда же она оттягивается из проекций, т. е. перестает быть мнением других людей, тогда человек осознает, что он сам себе хозяин, что только сам он и может сказать себе и «да», и «нет». Тогда самость функционирует в качестве unio oppositorum и составляет наиболее непосредственный опыт божественного, какой только можно представить себе с психологической точки зрения. О значении «единящего симвода» см. Psychologische Typen. Ges Werke Bd 6 Paragr. 315 ff.
с) Жертвующий
Я приношу в жертву не что иное, как свое эгоистическое притязание; тем самым я одновременно отказываюсь от самого себя. Следовательно, любая жертва есть самопожертвование, в большей или меньшей степени. Эта степень зависит от того, насколько значителен дар. Если он имеет для меня большую ценность, затрагивает мои личные чувства, то я могу быть уверен, что отказ от эгоистического притязания будет означать вызов моей личности (Ichpers6nlichkeit), которая неизбежно против этого возмутится. Я могу быть уверен и в том, что сила, подавляющая это притязание, подавляющая меня самого, есть не что иное, как самость. Таким образом, самость есть то, что побуждает меня к жертвоприношению, более того: вынуждает меня к жертвоприношению. В индийской философии мы имеем параллель в лице Праджапати и Пуруши Нараяны: первый заставляет второго принести себя в жертву, но по сути эти два персонажа тождественны. О призыве к жертвоприношению ср. Satapatha-Brfih-mana. In: Sacred Books of the East, vol. XLIV, 1900, p. 172 f. О жертвоприношении Пуруши см. «Ригведу», X, 90. Самость есть жертвующий, я — приносимый в жертву дар, человеческая жертва. Заглянем на мгновение в душу Аврааму, который, повинуясь божественному велению, должен был принести в жертву своего единственного сына. Помимо сострадания к сыну, разве не почувствовал бы любой отец при подобных обстоятельствах жертвой себя самого, разве не ощутил бы укол жертвенного ножа собственной грудью? Да, он был бы жертвующим и жертвуемым одновременно.