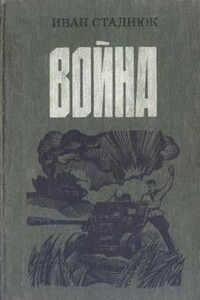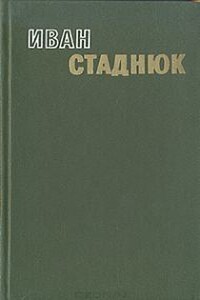Публицистические статьи | страница 26
Мне повезло несколько больше, чем моим фронтовым друзьям журналистам, но только позже. После войны я еще долго оставался в кадрах армии и не преминул воспользоваться возможностью обогатить свои познания законов войны, хотя бы в теоретическом плане, а в беседах со многими боевыми генералами уловить кое-какие присущие им психологические краски и оттенки, вытекающие из своеобразности мышления полководца, во многом основанном на особенностях боевой деятельности и на знании оперативного искусства. Как и все пишущие на военную тему, я с огромным интересом встречал и встречаю каждую новую книгу мемуаров о войне. Написанные крупными советскими военачальниками, эти книги довольно широко раздвигают для нашего видения рамки давно отгремевших грозных событий, показывают фон и сущность деятельности больших штабов и с яркими приметами конкретности приоткрывают особенности человеческой натуры полководца и главные побудительные причины для поиска полководческого решения. А если при этом есть еще представление об оперативном искусстве и методах его постигания в академических аудиториях и штабных учениях, есть знания из области истории войн и военного искусства - все это ощутимо вооружает писателей военной темы, как вооружило в какой-то мере и меня.
Разумеется, эти мои размышления весьма субъективны. Я исхожу только из своего опыта. Но буду далеко не искренен, если не назову главной причины, побудившей избрать ту форму повествования, которую я избрал в "Войне", а также объем, места и сущность событий, которые проявились в первых двух книгах. Оговорюсь, что в этом направлении уже много сделано другими писателями, да и, я убежден, еще будет сделано. В первых книгах "Войны" мне хотелось, не вступая в прямую полемику, поспорить с теми литераторами, военными историками и мемуаристами, которые в своих трудах весьма односторонне рассматривали события, предшествовавшие нападению гитлеровской Германии на СССР, а также события начального периода Отечественной войны; хотелось, основываясь на изученных исторических фактах и на свидетельствах лиц, имевших причастность к происходившему, несколько с иных позиций рассмотреть причины наших неудач в начальный период гитлеровского вторжения. Иные историки и литераторы с прилежанием, достойным лучшего применения, порой не гнушаясь даже тенденциозными буржуазными источниками, собирали всевозможные факты и домыслы, которые очерчивали круг известных якобы Советскому правительству сведений о сроках начала гитлеровского вторжения. И делали из этого вывод: Советское правительство и лично Сталин были, мол, предупреждены о нависшей угрозе, но необходимых мер не приняли. Дальше этого вывода не шли, не анализировали ситуацию того времени и не сопоставляли исторические факты таким образом, дабы обнажилась главная истина: Советская страна задолго до войны уже напрягала огромные усилия, стараясь накопить необходимые средства, в предвидении вооруженного столкновения с миром капитализма; наши враги наблюдали за этими усилиями и тоже торопились, чтобы упредить военное возмужание Страны Советов. Что же касается просчетов Сталина в определении сроков начала войны и недосмотров в планах нашей стратегической обороны, то они, разумеется, имели место и имели свои причины, которые обусловлены связью явлений - внешнеполитических, внутриэкономических, военно-оперативных; но в конечном счете, как показала война, просчитался Гитлер со своим генералитетом...