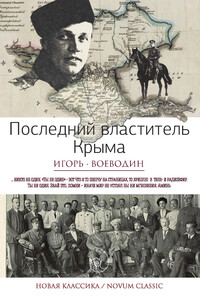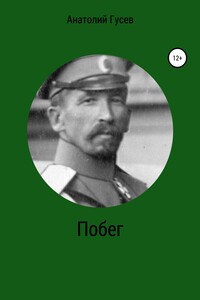Голоса исчезают – музыка остается | страница 28
Здесь помпезно, сменяя друг друга, проходили декады культуры, и на них слетались отовсюду тогдашние «звёзды» искусства; грузинская поэзия благодаря вдохновению московских переводчиков завоёвывала сердца миллионов читателей – ничуть не меньше, чем грузинские вина и грузинское кино. Это был праздник с великолепными афишами, пышнейшими банкетами, самый разгар праздника, которого не случалось прежде и которому, как ни жаль, впредь уже не дано повториться – ни-ког-да.
Мы шли по красавцу-проспекту с Иосифом, и его буквально через каждый шаг останавливали, раскланивались с ним. Он тут же забывал обо мне, заводил длиннющие разговоры с ахами и охами – вай ме, вай ме, вай ме; а что оставалось мне: я лишь отдавал честь проходившим мимо бесчисленным офицерам.
Известность и слава Нонешвили были поразительны, но я не хотел торчать столбом возле оперного театра или подвальчика «Воды Лагидзе», поскольку боялся встречи с патрульными.
Иосиф запретил называть его по отчеству (Элиозовичем) и на «вы»:
– Ты что, с ума сошёл?!
Из-за чего я прямо ошалел.
Потом его внезапно озарила какая-то идея, и мы направились прямиком на улицу Луначарского, 7, к Михаилу Кузьмичу Головастикову, полковнику, главному редактору окружной газеты, молодому ещё, но седовласому, по-рязански голубоглазому. Я понятия не имел, чем всё это может кончиться. Мы договорились с полковником, что я вскоре, уже в октябре, уйдя в запас, перееду сюда на работу спецкором. Чтоб подкрепить соглашение, Михаил Кузьмич налил нам с Нонешвили по стаканчику пятизвёздочного коньяка. Его не смутило, что я был в солдатской форме со скромными лычками на погонах с пушечками.
А вечером Иосиф повёл меня к себе домой. Из окна его шикарной квартиры открывался во всём блеске вид на Мтацминду с могилами Грибоедова и Нино Чавчавадзе и храмом Святого Давида. Я был в полном потрясении. Пятилетний сынишка Иосифа, оставшись на минутку без присмотра, нарисовал на стене карандашом то, что видел постоянно, – гору и нечто, похожее на фуникулёр.
– Сынок, так ты художник? – изумился гордый отец. – Надо будет сохранить эту наскальную живопись.
А после этого начался пир – с огромными гроздьями винограда, кукурузными лепёшками, лобио, фаршированными баклажанами, сациви, чахохбили, чанахи, рыбой-соцхали, кинзой, базиликом, соленьями – мжавеули, нескончаемым кахетинским… Я был вымотан, усталый до крайности, переполнен невероятной, просто бьющей наповал многокрасочностью Тбилиси – и после второй рюмки чачи я вырубился, успев вымолвить: «Виноват… пардон…»