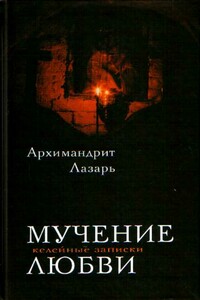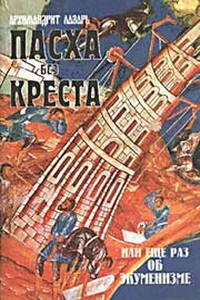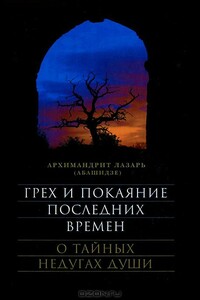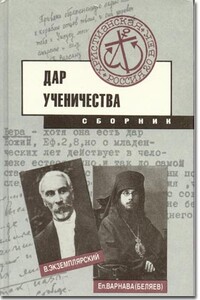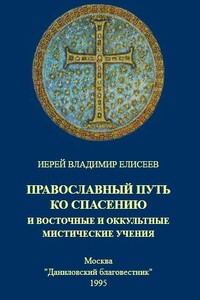Голос заботливого предостережения | страница 47
Давайте представим себе, что кто-либо из нас собирается совершить долгое и рискованное путешествие в страну, лежащую по ту сторону огромного горного массива весьма сложного рельефа, характерного жуткими высотами и крутостью склонов. Вдобавок ко всему в горных лесах обитает множество диких зверей, ядовитых пресмыкающихся, часто случаются ураганы, обвалы, снежные лавины и тому подобные страсти. Конечно же, отправляться в такое путешествие новичку, да еще в одиночку,- равносильно самоубийству. Надо непременно найти попутчиков, которые бы разделили тяготы пути и могли оказать поддержку при встрече с опасностью. Но одно дело, когда мы найдем проводника надежного и опытного, который уже ходил через эти места, знает горные тропы, на опыте знаком с опасностями дороги, с повадками диких зверей: тогда только можно полностью довериться ему и лишь поспешать за ним, выполняя все его указания, стараться во всем подражать ему, чтобы не совершить опрометчивый шаг. Другое же дело, когда такого знающего и опытного человека нет и мы находим попутчика, который хотя и бывал в горах, но не пересекал еще эти хребты, не знает местных троп, особенностей этих мест и только наслышан от других о том, что может встретиться впереди. Тогда небезопасно довериться такому «проводнику»! Можно отдать ему предпочтение и главенство над экспедицией, во многом слушаться его и доверяться ему, но не помешает время от времени справляться с картами, посматривая на компас, а еще лучше - подробно расспрашивать про дорогу изредка встречающихся местных жителей или других путешественников. Когда же мы заметим опасную оплошность впереди идущего, то без сомнения и без промедления должны удерживать его от опрометчивого шага, а если он не согласится быть осмотрительней, то и вовсе отказаться следовать за ним. Ведь риск немалый! Если впереди идущий собьется с пути, заблудится в этих страшных горах, то всех, кто доверился ему, также ждет гибель.
Так и во врачебнице: фельдшера, санитары, медсестры имеют свой круг обязанностей, могут в некоторой степени облегчать больному страдания или применять безопасные средства, не требующие глубоких познаний, но они не дерзают делать операции или употреблять действия, на которые имеет право решиться только врач. Святитель Василий Великий говорит: «…ежели при телесном врачевании не всякому позволено делать над больным употребление лекарства или какого орудия, а только тому, кто приобрел в этом искусство долговременностию, опытом, упражнением в лечении и учением у знающих, то какое же основание всякому без разбора приниматься за врачевание словом, где, если и самая малость опущена из виду, приносит сие весьма великий вред?»[5]. Святой Лествичник, сравнивая духовного пастыря с врачом, обращается к наставнику: «Стяжи и ты, о досточудный муж, пластыри, порошки, глазные примочки, пития, губки, и при сем небрезгливость, орудия для кровопускания и прижигания, мази, усыпительные зелия, ножи, перевязки. Если мы не имеем сих припасов, то как покажем врачебное искусство? Никак не можем…»[6]. Понятно, что когда врач дерзает провести хирургическую операцию, осмеливается касаться острым ножом самих внутренних органов доверившегося ему больного, обещаясь исправить их, то он должен быть вполне уверен в своей опытности и в умении распознавать и врачевать болезнь, должен заготовить все необходимые инструменты и снадобья. Так и духовный наставник, дабы не сделать зла своим ученикам и собратьям, должен стяжать «душевные чувствия обучена долгим учением в разсуждении добра же, и среднего, и зла (Евр. 5, 14)»[7]. Наставник не только для себя должен избрать верный путь, но и понимать внутреннее устроение водимого им, так как у каждого спасающегося есть свои особенности и руководство должно точно соотноситься с силами и духовным расположением руководимого. Святыми отцами не всем вступающим в монашество предписывался одинаковый образ жизни: «Добрый воевода должен ясно знать состояние и устроение каждого из подчиненных»[8],- говорит святой Иоанн Лествичник, и «при сеянии духовного семени должно рассуждать о времени, о лицах, о количестве и качестве семени», «ибо для всякой пищи есть свое время: часто одна и та же пища в некоторых производит усердие, а в других печаль»[9].