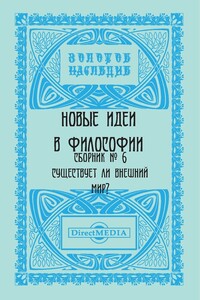Новые идеи в философии. Сборник номер 16 | страница 60
По вопросу о том, существуют ли бессознательные душевные явления, Гуссерль не высказывается. Однако, раз он называет душевные явления переживаниями, то нельзя ему приписывать признание таковых. Только он ничего не сделал, чтобы выявить эту черту душевности, как это сделали: Уфуэс – через свой признак сознательности, Брентано – через то, что он признал всякое душевное явление предметом душевного явления. Против учения последнего, что всякое душевное явление в частности есть предмет восприятия (т. е. по воззрениям Брентано, познания особого рода), Гуссерль прямо восстает, утверждая противное (стр. 339, ср. 701, 702).
Связи с перипатетической традицией в этих предварительных общих взглядах Гуссерля совершенно нет – это ясно из сопоставления их со сказанным ранее об особенностях воззрений школы Аристотеля на душевную жизнь.
Обратимся к вопросам психологии мышления. Гуссерль считает весьма важным подчинение понятия мыслительных переживаний родовому понятию актов.
Исключаются при этом ощущения и фантазмы, которые, по его учению, не акты, и которым он придает мало значения, поскольку они не входят в состав актов. Важным же он считает подчинение понятия мыслительных переживаний понятию актов не только для их отграничения от иных видов душевной жизни, но и для обогащения внутреннего аналитического понимания явлений мышления (стр. 323, 473).
Понятие, связанное у Гуссерля с термином «акт», заимствовано, по его собственному признанию, у Брентано (стр. 344, 345). Это хорошо известное нам понятие душевного явления или акта, определяемого, прежде всего, через отношение его к предмету (направление на предмет, имманентную предметность, интенциональное существование предмета внутри явления). Это понятие Гуссерль решительно отвергает, как уже сказано выше, в качестве характеристики всякого душевного явления или переживания, признавая его только родом переживания, почему он, разумеется, и отказывается обозначить это понятие термином душевное явление (стр. 346, 347, 350). Называет он его, как уже было сказано, актом и, следовательно, теснее чем Брентано (ср., например, стр. 345) связывает со словом акт значение чего-то, направленного на предмет. Ведь у Брентано душевные явления и душевные акты просто синонимы, акты характеризуются направленностью на предмет только потому, что это – существенный признак душевных явлений, а если что и оттеняется словом акт, то только признак деятельности, который, напротив, у Гуссерля отпадает. Акт для него просто род переживаний, а понятие деятельности он считает необходимым из него совершенно исключить (стр. 358, 359). Схоластическая традиция тоже охотно понимала это слово в более широком, чем деятельность, смысле, хотя и несколько ином, чем у Гуссерля, – в смысле определенности. Но в психологии удерживалось именно гонимое Гуссерлем понимание акта как деятельности. Под актом, значит, Гуссерль подразумевает такое переживание, которое характеризовано отношением к предмету, направлением на него. Синонимичные выражения «имманентная предметность», «интенциональное существование предмета внутри переживания» Гуссерль не решается принять, так как он считает их наводящими на мысль о реальной включенности предмета в переживание. Таковую он, конечно, отвергает. Он подчеркивает, что в актах отношение к предмету интенциональное; мы уже видели при изложении соответствующих воззрений Брентано, что этот термин способен послужить характеристикой своеобразия рассматриваемого вида отношений. Интенциональное отношение к предмету Гуссерль понимает прежде всего как такое, при котором предмет имеется в виду (ist gemeint). В этом не заключается присутствия двух душевных явлений, двух переживаний: предмета и акта, на него направленного. В частности, предмет не составляет и части направленного на него интенционального переживания (т. е. акта). Напротив, ничего другого в этом не содержится, как то, что присутствует известное переживание с указанным характером интенции. Предмет акта может существовать, может и не существовать; во всяком случае, через то самое, что он предмет акта, он не есть переживание, хотя, разумеется, и переживания могут стать предметами актов (стр. 351, 352, 357, 376).