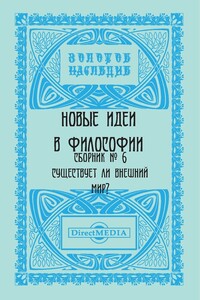Новые идеи в философии. Сборник номер 16 | страница 43
Эти определенности содержания представляются как бы совершенно сложившимися и в то же время «не имеющими субстрата», свободно витающими перед умственным взором во всей своей глубине и сложности. Перед нами могут развертываться безгранично широкие области знания, к которым, именно в силу этой безграничной широты умственного захвата, неприменимы никакие определения «объема» сознания. Мы можем мысленно обозреть одним взглядом самые сложные научные и философские системы, можем мысленно проникнуть в самую сердцевину художественного, этического или религиозного миросозерцания. Это не есть простое сознание способности воспроизвести те или иные содержания. Мы переживаем совершенно различные состояния, если, с одной стороны, сознаем, что мы в состоянии, например, воспроизвести философию Платона, а с другой – действительно воспроизводим ее перед своим умственным взором, прозреваем ее в данный момент, погружаемся в нее и, «воздух горний радостно вдыхая», чувствуем себя обвеянными горним воздухом.
Из того обстоятельства, что мысли совершенно отличны от ощущений и представлений, естественно вытекает, что законы, управляющие течением и связью мыслей, иные, чем те, которым подчинены в своей смене ощущения и представления. Мы не будем, однако, входить в рассмотрение очень интересных исследований Бюлера по этому вопросу, в виду того, что они уже изложены в статье Кюльпе, помещенной в настоящем сборнике.
В связи со всеми изложенными выше исследованиями выдвигается целый ряд основных вопросов психологии – о значении задания, о факторах, управляющих сменою психических процессов, об анализе волевого процесса, о психической установке, о психических «функциях», о классификации психических процессов. Мы остановимся только на тех, которые имеют ближайшее отношение к характеристике процесса мышления, именно на вопросах сознания объективности, усмотрения отношений и ненаглядного знания.
Во-первых, мысли переживаются как определяемые свойствами и отношениями объективной данности. Эта черта особенно определенно выражена Мессером. Являющийся до некоторой степени предшественником Вюрцбургских психологов, Бине18, и критики Вюрцбургских работ Вундт19, Астер20, Бец21, напротив того, рассматривают мышление как особого рода чувство, т. е. субъективное состояние. Особенно резко выставляет эту точку зрения Вундт, говорящий о «чувстве понятия, о чувстве значения». Такое распространенное толкование чувства едва ли представляется целесообразными Во всяком случае, нельзя не отметить при мышлении сознание объективности, «направленности, интенции на предмет», сообразования е предметом, образованности предметом.