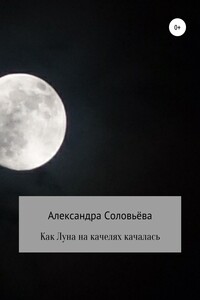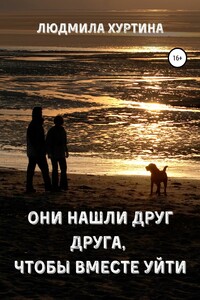Дальние пределы человеческой психики | страница 19
28
Здоровье it патология
такого же рода образ, но еще более неприятный, складывается в отношении психологов: студенты колледжа, например, считают психологов манипуляторами, лжецами, притворщиками, которые исподтишка стремятся установить контроль над людьми.
Не пора ли нам, ученым, действительно посмотреть на человека как на существо, обладающее <врожденной мудростью>? Только если мы поверим в автономность человека, в его способность к самоуправлению и выбору, мы, ученые, не говоря уже о врачах, учителях и родителях, сможем стать более даоистичными. Это - единственное слово, на мой взгляд, способное вобрать в себя все те качества, которыми должен обладать ученый-гуманист. Быть даоистичным - значит познавать человека, но не поучать его. Это - невмешательство, отказ от управления. Даоистичная позиция - это прежде всего наблюдение, не манипуляции и не управление, она скорее пассивнорецептивна, нежели активно-наступательна. Чтобы было совсем понятно, скажу так: если вы хотите познать селезня, то познавайте селезня, а не рассказывайте ему о кулинарии. То же самое можно сказать и о детях. Чтобы <задать> им <урок>, нужно понять, что станет <уроком> для них, а для этого нужно побудить ребенка рассказать об этом.
В сущности именно такого способа поведения придерживается в своей работе хороший психотерапевт. Он не навязывает свою волю пациенту, он направляет все свои усилия на то, чтобы помочь ему, пациенту, с трудом выражающему свои чувства, плохо осознающему себя, обнаружить то, что происходит в нем. Психотерапевт помогает ему понять, чего хочет он, пациент, к чему он стремится, что он считает хорошим и полезным для себя. В такой позиции нет и намека на диктат, на миссионерство, на наставничество. Эта позиция основывается на тех же самых предпосылках, о которых я упоминал выше и которыми, к сожалению, пользуются крайне редко, - это, например, вера в то, что большинство людей изначально, биологически тянутся к здоровью, а не к болезни, или допущение, что субъективного ощущения человеком своего благополучия вполне достаточно, чтобы понять, что <хорошо> для этого конкретного человека. Такая позиция предполагает нашу веру в то, что свободная воля человека гораздо важнее, чем его предсказуемость, что мы верим во внутренние силы сложного организма, каковым является человек, верим в то, что каждый человек стремится к полной актуализации своих возможностей, а вовсе не к болезни, страданиям или смерти. В тех же случаях, когда мы, психотерапевты, сталкиваемся со стремлением к смерти, с мазохистскими желаниями20, с саморазрушительными формами поведения, с желанием боли, мы знаем, что имеем дело не с человеком, а с его <болезнью>, - в том смысле, что сам человек, если он когда-либо бывал в другом, <здоровом> состоянии, сделал бы верный выбор, он гораздо охотнее предпочел бы ощущать здоровье, нежели испытывать боль. Некоторые из нас даже склонны смотреть на мазохизм, суицидальное поведение, всевозможные формы самобичевания и самонаказания как на глупые, неэффек 0 гуманистической биологии