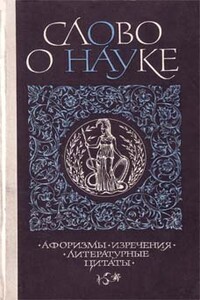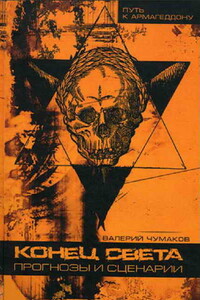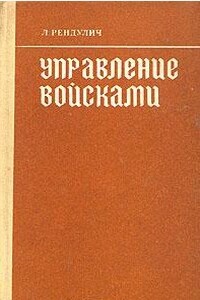Принципы права вооруженных конфликтов | страница 43
Абсурд же состоит в том, что достаточно всего один раз нарушить запрещение применять силу, чтобы затем ответственный за это продолжал бы применять силу, не совершая новых нарушений нормы. Иными словами, нарушение запрещения прибегать к силе узаконивало бы любое последующее применение силы!
1.11. Доктрина не всегда замечает непоследовательность, вытекающую из слишком последовательной «сортировки» норм jus contra bellum и норм jus in bello. Мейровиц пишет по поводу войны в Персидском заливе:
«Согласно международному праву, агрессор — преступник, а по jus ad bellum он не совершает нарушения, учиняя вооруженное нападение на государства, которые на законных основаниях реализуют свое право коллективной легитимности, если он не преступает норм jus in bello» >177>.
Далее Мейровиц отмечает, что закрытие Ираком дипломатических миссий, аккредитованных в Кувейте, не было незаконным>178>, забывая при этом, что изначальный противоправный акт, совершенный Ираком, — вторжение в Кувейт — неизбежно ставит под сомнение все последующие действия Ирака против Кувейта или других государств, поскольку эти действия проистекают из изначального противоправного акта>179>.
Таким образом, толкование последствий выполнения права вооруженных конфликтов, данное этим автором, должно быть отброшено, что, кстати, согласуется с хорошо известной формулой: ex injuria jus non oritur.
1.12. Создается впечатление, что в плане рассмотрения последствий нарушения jus contra bellum юриспруденция Комиссии по рассмотрению жалоб Эритреи и Эфиопии тоже не всегда была достаточно последовательной. Так, по отдельным аспектам спора, которым она занимается, Комиссия справедливо заключила, что требования, связанные с экономическими потерями одной из воюющих сторон, должны быть вписаны в более широкие рамки репараций за нарушение jus contra bellum>180>. Относительно жалоб Эфиопии на то, что Эритрея секвестрировала предназначавшиеся ей грузы, перевозившиеся транзитом через эритрейские порты Ассаб и Асмара, Комиссия высказала мнение, что приостановка торговли и наложение секвестра на товары, рассматриваемые в качестве неприятельского имущества, основывалась на «правах, связанных с ведением войны» воюющих сторон. Комиссия, в частности, заявила:
«Право стороны в международном вооруженном конфликте ограничить или прекратить любые коммерческие отношения между ней и противной стороной в этом конфликте было явным образом установлено и нашло подтверждение в обширной практике государств в XX веке. [...]