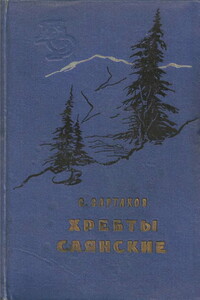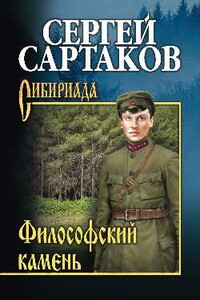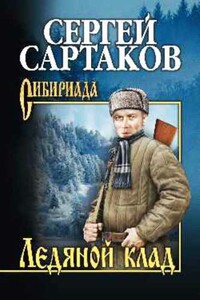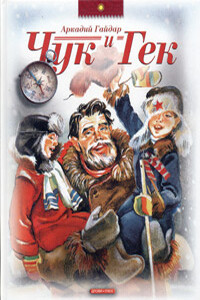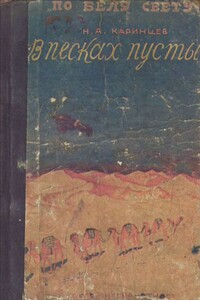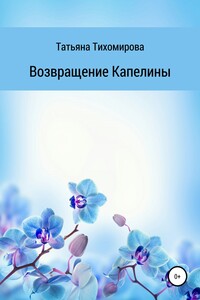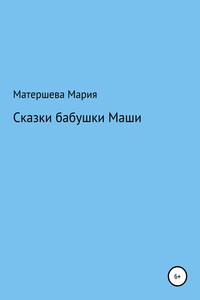По чунским порогам | страница 28
Так или иначе, но я достиг своей цели. Она была настолько близка, что я уже отчетливо видел: это не лист бумаги, а газета. Газета «Красноярский рабочий»!
Оставалось подняться по наклонно стоящему камню, ухватиться руками за куст акации, подтянуться на площадку — и газета будет у меня в руках. Но камень круто наклонен в сторону реки, даже на четвереньках не удержишься; я лег пластом на живот и пополз, извиваясь, как ящерица, и цепляясь пальцами за каждый выступ на камне. Все время не покидало ощущение потери равновесия. Казалось, приподними я голову чуть повыше — и сила тяжести, как клин, войдет между мной и камнем, отдерет от него и сбросит вниз, в порог.
Невзирая на боль, я ухватился за колючую ветвь акации и выбрался на покрытую лишайниками верхушку камня. Вот оно, в руках, послание «пешеходов»!
Но сколько я ни разглядывал газету, ни малейшего следа какого-либо письменного сообщения на ней обнаружить не мог. Один угол газеты был оторван, бесспорно, тот самый, что мы нашли на левом берегу реки, — видимо, его туда перебросило ветром. Все становилось теперь уже совершенно непонятным, если только продолжать считать, что газета принадлежала «пешеходам» (а дата на ней стояла, действительно, совпадающая с днем нашего выезда из Красноярска). Было непонятно, почему «пешеходы» оказались на правом берегу; было непонятно, почему они, укрепив газету на видном месте, ни единого слова не написали на ней; было непонятно, почему даже не сделано никакого знака, что газета принадлежит именно им… Возможно, они не рассчитывали, что мы полезем доставать ее с такого головокружительного утеса, и поэтому ничего на ней не написали. Но тогда что означает белый сигнал в горле порога? Открытый путь? Вряд ли это кого убедит…
Я со злостью скомкал газету и сунул ее в карман. Нет, нет, сказано: плыть до Костиной. И если «пешеходы» ушли оттуда, так пусть и пеняют на себя, пусть так и ходят пешком. Пусть идут куда угодно: в Нижнеудинск, в Енисейск или обратно в Красноярск! Все! Точка!
Я стоял высоко над рекой и, вероятно, всего каких-нибудь пять или шесть метров отделяли меня от вершины утеса. Но одолеть их было невозможно: путь преграждали совершенно отвесные скалы. Надо было спускаться вниз и искать боковых обходов. Я лег на живот, вцепился в куст акации (предварительно очистив его от колючек перочинным ножом) и свесил ноги. Так, постепенно, я вытянулся на всю длину рук. Вспомнил, что прежде чем ухватиться за акацию, я довольно долго полз по наклонному камню. Сколько это было — один метр или пять метров? — определить теперь я ни за что бы не смог. Приподняться над камнем и посмотреть, как далеко до уступа — это значило почти наверняка упасть вниз. И не хватало решимости выпустить ветви акации и, прилепившись к камню только тяжестью своего тела, начать сползать наугад. Сразу представилось, как из-под ноги у меня вылетает опора, я шарю руками, пытаясь хоть за что-нибудь зацепиться, качусь по наклонной плоскости быстрее и быстрее, ударяюсь об уступ и, как мячик, отскакиваю от него…