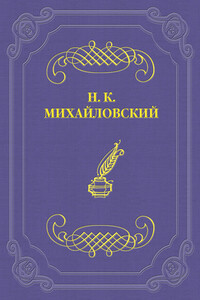Русское отражение французского символизма | страница 14
Повторяю, я высоко ценю благородное настроение души г. Мережковского, не удовлетворяющегося сухостью, черствостью и односторонностью доктрин позитивизма и натурализма. Но протестовать против них можно с различных точек зрения, и любопытно знать, почему именно французский символизм пришелся ему по душе? Прежде всего, одно дело – Франция и другое дело – Россия. Во Франции, как справедливо замечает г. Мережковский, символизм имеет значение „возмущения“. Против чего возмущается г. Мережковский и указываемая им „единственная живая в России литературная сила“– отважное войско, состоящее из г. Чехова, Фофанова, Минского, Спасовича, Андреевского и Вл. Соловьева? Я, впрочем, не хочу ставить г. Мережковского в неловкое положение человека, взявшегося говорить от лица людей, не давших ему полномочий. Я остановлюсь только на нем самом.
Позитивизм Огюста Конта, о котором, впрочем, г. Мережковский прямо не упоминает, имел у нас некоторое значение, но его односторонность и узкость были указаны в русской литературе очень давно, когда г. Мережковский еще никакими отвлеченными вопросами не занимался, а играл в лошадки и вообще предавался невинным забавам, свойственным младенческому возрасту. Натуралистическим теориям в искусстве отводил было одно время на своих страницах место „Вестник Европы“{14}, но и этот почтенный журнал от них давно отступился, и, во всяком случае, натурализм, или зола-изм, отразился у нас разве только в некоторых произведениях гг. Боборыкина, Ясинского и еще кое-кого помельче. Главное русло русской поэзии и беллетристики никогда не совпадало с натурализмом. Русская критика также никогда не вдохновлялась им. Правда, за этой русской критикой г. Мережковский считает другие тяжкие грехи. Но, каковы бы они ни были, „возмущение“ г. Мережковского против русской критики может иметь лишь частный характер. Гг. Андреевский и Спасович являются в изложении нашего автора такими блестящими критиками, каким могут позавидовать гораздо более богатые, чем наша, европейские литературы, а ведь и там их не дюжинами считают. Г-н Мережковский возразит на это, что одна ложка дегтю портит бочку меду, а в данном случае даже наоборот выходит: бочка скверного, черного дегтя и в ней ложечка светлого, душистого, сладкого меда в лице г. Андреевского и Спасовича. И именно потому г. Мережковский направляет свои удары преимущественно на критику, что она была причиной упадка литературы вообще. Если, однако, это соображение и справедливо, то оно все-таки не решает вопроса, а только отодвигает решение. Критика не однородное какое-нибудь тело в составе литературы, она часть ее, и потому надо спросить: отчего произошел упадок критики? Иначе вместо ответа на вопрос, поставленный даже в заголовке книги, получится вариация на мольеровскую тему