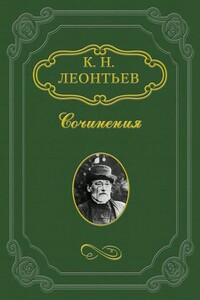Сквозь нашу призму | страница 12
Спрашивается теперь: почему г. Пашков свободно предлагает народу публичные религиозные чтения, между тем как священники, специалисты этого дела, не уполномочены существующим порядком на такую же свободу? Ужели г. Пашков, отставной полковник гвардии, может быть признаваем более компетентным проповедником религии, чем священники, получившие специально богословское образование? Все это вопросы и вопросы. Мы не против свободы, какою пользуется г. Пашков, но желали бы видеть ее распространенною на священников прежде всего.
Обращаясь собственно к содержанию Пашковских чтений, мы должны сказать, на основании наших сведений о них, что подобные чтения суть часто школьные упражнения с Евангелием. Любой семинарист даст более обстоятельное и дельное объяснение Евангелий, чем то, какое дает г. Пашков. Мистическое направление в его объяснениях, в духе учения Редстока, выдается, по-видимому, за новизну. Между тем наши священники могли бы в той же зале г. Пашкова, где он ведет свои чтения, дать ему самому и его публике отличные лекции с изложением учений всех мистических сект протестантства, каковы, например, секты анабаптистов, пиетистов, квакеров, гернгутеров и т. п. Проштудирование подобных сект отняло бы у проповедей г. Пашкова всякое обаяние, потому что религиозный мистицизм (?) давно уже устарел в ряду других более современных богословских систем. Во всяком случае мы желали бы, чтобы наша пресса обратила серьезное внимание на появление в домах Петербурга стремления к религиозной проповеди. Явление это весьма характеристично и заслуживает специального изучения».
К сожалению, мы не можем согласиться во всем с уважаемою газетою.
Мы согласны, что священники могут сделать больше пользы подобными чтениями и толкованиями, чем Редсток и г. Пашков, но не столько при личной неограниченной свободе каждого проповедника, сколько при наибольшей независимости всей Церкви в ее совокупности. Мы думаем, что благие последствия были бы неисчислимы, если бы в этом вопросе свобода высшая, то есть всей великой корпорации, именуемой духовенством, была предпочтена индивидуальной независимости. Та общая независимость иерархии и Церкви, о которой так много думали настоящие славянофилы, укрепила бы везде ослабшее единство Православия, а личное своеволие в проповеди могло бы только умножить наши секты и расколы… К расколу крестьянскому прибавился бы раскол интеллигентный, столичный.
Свобода проповеди досталась бы на долю духовенства белого; а иеромонахам и вообще монахам, заключенным в стенах отдаленных обителей, было бы трудно противодействовать в этом случае духовенству женатому и светскому, к несчастию, и без того весьма расположенному у нас – я не смею сказать к протестантству (это было бы слишком), а проще и скромнее к