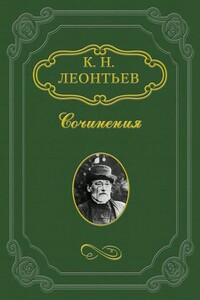Мои воспоминания о Фракии | страница 34
Я говорю, что никакое правительство не воспрещало своим агентам в Турции иметь «идеи» и даже высказывать их от поры до времени; но ни одно, конечно, и не требовало этого. Наше начальство требовало от нас постоянно двух вещей: 1) знать хорошо, что делается и даже думается в стране и вовремя доносить об этом и 2) держать себя в стране так, чтобы помнили, что есть на свете Россия, единоверная христианам. Общая же наша политика после Парижского мира была такова: поддерживать и защищать гражданские права христиан и умерять, насколько возможно, естественный пыл их политических стремлений.
Надо согласиться, что правильнее и умереннее этого нельзя было ничего придумать. С этою прямою и ясною целью и было открыто по всей Турции столько новых русских консульств после неудачной для нас Восточной войны пятидесятых годов.
Итак, вопрос: соответствовал ли Ступин тому двойственному идеалу политического агента, о котором я сейчас говорил? Многого об этом сказать не могу. Во время моей службы во Фракии я, изучая архив консульства, читал, между прочим, и его донесения, но по многим причинам вынужден был обращать на них гораздо меньше внимания, чем на деятельность, на воззрение и, так сказать, на «методу» моих ближайших предместников гг. Шишкина и Золотарева. Времени было мало: нужно было в одно и то же время и самому действовать, и учиться; нужно было судить, рядить,