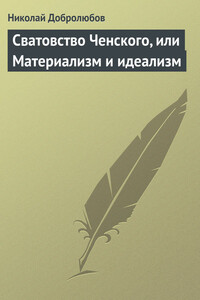Заграничные прения о положении русского духовенства | страница 18
Вместе с тем «Описание сельского духовенства» вызвало критику и в демократической среде. В архиве «Колокола» частично сохранилась рукопись, содержащая разбор этой книги (см. публикацию П. Г. Рындзюнского в ЛН, т. 63, с. 201–206). Неизвестный автор, считая, что духовенство, как и религия, осуждено историей на вымирание, выступает против каких-либо улучшений в положении этого сословия, гак как видит в них угрозу умственному прогрессу. «Падайте молча, глубже, вы этого достойны», – говорит он русскому духовенству (там же, с. 202). Этот отзыв оттеняет широту демократизма Добролюбова, который, разделяя отношение корреспондента «Колокола» к религии и церкви, не мог отказать в общественном внимании бедственному положению целого социального слоя.
Не имея возможности прямо обратиться к запрещенной книге, Добролюбов пропагандирует ее, показывая неубедительность «опровержений» и извлекая из них факты, подтверждающие правдивость «Описания сельского духовенства». Но статья Добролюбова, в отличие от других откликов на сборник «Русское духовенство» (Светоч, 1860, кн. 1, отд. III, с. 85–94; Московский вестник, 1860, № 4; БдЧ, 1860, № 6 – рецензия П. И. Вейнберга), на сводится к выявлению беспомощности и несостоятельности этих «опровержений». Защита запрещенной книги служит Добролюбову поводом и формой для оправдания и даже «обоснования» бесцензурной литературы вообще. При этом Добролюбову пришлось проявить большую изобретательность, так как осуждение в печати цензуры, как и любого другого государственного учреждения, было цензурными правилами запрещено. Внешне в статье критикуется, и то довольно умеренно – за «крайности», – только одно цензурное ведомство – духовное, а светскую цензуру автор даже ставит в пример за то, что она, не допуская обсуждения основ общественного порядка, разрешает критику частных злоупотреблений и недостатков. При этом Добролюбов указывает, что такая критика «не только не разрушает нашего государственного принципа, но еще и укрепляет его». Такими исполненными скрытой иронии «похвалами» критик – в период наибольшего ослабления цензурного гнета и всеобщего убеждения в процветании гласности – демонстрирует отсутствие подлинной гласности в России, а заодно еще раз подчеркивает мелкотравчатость либерального обличительства. С другой стороны, критик отстаивает: право личности «свободно и прямо выражать свои мысли», даже если они противоречат существующим законам, и указывает на бесцензурную литературу как на неизбежный результат этой естественной и неискоренимой потребности.