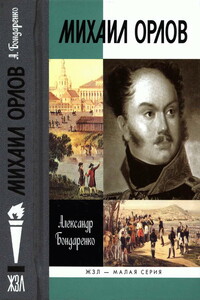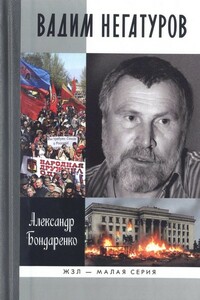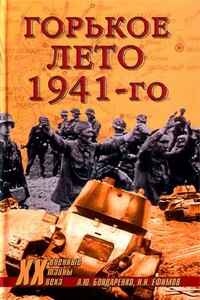Герои «СМЕРШ» | страница 35
Разумеется, «смершевцы» не стали демонстрировать раскаявшимся агентам свою осведомлённость, а те с понятным энтузиазмом согласились на предложение участвовать в радиоигре, получившей условное наименование «Подрывники».
20 октября в «Цеппелин» ушла радиограмма следующего содержания:
«Приземлились благополучно. Долго собирались. Место подготовили. Ищите три костра, расположенные треугольником в условленном месте: в верховьях реки Вожега, в 20 км к юго-востоку от станции Вожега».
Прошла почти неделя ожидания. Наконец 26 числа пришло указание потушить костры и развести их вновь после получения даты прилёта самолёта. Через день сообщили, что диверсанты, вероятно, прибудут 28-го, а потому огни должны появляться ежедневно, с 20 до 21 часа. Диверсантов ждали, и не только разводившие костры бойцы 250-го конвойного полка НКВД: в районе места высадки были приведены в боевую готовность истребительные батальоны, так называемые группы содействия и даже местное население.
Однако самолет, прилетевший только 1 ноября, не долетел до костров и места «запланированной встречи». 14 парашютистов были выброшены на лес где-то между Сямженским и Вожегодским районами Вологодской области… По счастью, возвратившиеся на родную землю диверсанты отнюдь не горели желанием подрывать рельсы Северной железной дороги: девять человек тут же отправились с повинной в НКВД, четверо были арестованы в районе станции Вожега, один диверсант при задержании застрелился.
Отметим, кстати, что этот агент, имевший документы на имя сержанта Ивана Ивановича Мартынова, к заброске в советский тыл был подготовлен плохо. За шесть куриных яиц он, не спрашивая, отдал 900 рублей (почти что месячное денежное довольствие фронтового командира роты или же две бутылки водки на «чёрном рынке») да ещё и электрический фонарик в придачу. Такая не совсем понятная щедрость вызвала у граждан естественные подозрения… Можно полагать, что и другие члены группы также были далеки от понимания советских реалий.
Вообще, насколько известно, чем хуже были дела у германской армии, тем менее качественной становилась реальная подготовка агентуры из военнопленных. Нет, агенты успешно овладевали разного рода спецдисциплинами — могли стрелять, взрывать и прочее, но очень слабо ориентировались в происходящем в СССР. Не слишком доверяя своим приспешникам, немецкие руководители старались оградить их от «советской пропаганды»: готовясь к заброске в советский тыл, курсанты разведшкол не читали советских периодических изданий, а информацию о происходящем на фронтах получали на уровне геббельсовской газеты «Völkischer Beobachter»