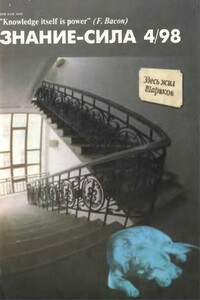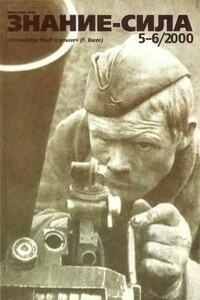Знание-сила, 2009 № 10 (988) | страница 30
К сожалению, прогноз оправдался. В еще более жестком, чем ожидали, варианте. Может быть, именно с этим связана шумиха вокруг ЕГЭ — в общем-то, второстепенного вопроса.
Может быть, и нужна она для того, чтобы отвлечь внимание от истинного положения дел и того тупика, в котором оказалось российское образование. Давайте зададим простые вопросы. Буду рад, если ответы на них изменятся или уже изменились в ходе последних реформ.
Сколько лет учатся наши студенты? Могу судить по ряду естественных факультетов МГУ, МФТИ, МИФИ — будущей инновационной элите России. Родители и чиновники полагают, что 5 или 6 лет, в зависимости от вуза. На самом деле в массе своей — 2–2,5 года. За это время они получают знания компьютерных наук, позволяющих им устроиться на работу, на неполную рабочую неделю (800 — 1000 долларов в месяц). Сами студенты называют свою квалификацию — «слесарь-программист». 30 лет назад в этих вузах студенты очень интенсивно учились и на старших курсах немного подрабатывали. Сейчас они после 2-го курса работают и немного, в большинстве своем, подучиваются.
Куда идут работать выпускники престижных вузов? В никуда. Даже во внешне благополучной докризисной ситуации. Они зачастую оказываются просто не нужны. Трудоустройство на работу по специальности, в какой-то мере адекватно оплачиваемую, представляет собой сложную творческую задачу, к решению которой приходится привлекать семью, родственников, знакомых. Простой пример, связанный с элитным факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова — факультетом наук о материалах. Тут готовят специалистов по нанотехнологиям, о которых сейчас так часто говорят. Многие их них во время учебы проходят стажировку в Англии, Франции, Германии, Бельгии, на Тайване, и эти лаборатории обычно готовы их взять. Окончили, пора работать. Но негде. Нет у нас крупных фирм, высокотехнологичных гигантов, занимающихся тем, что в мире называется нанотехнологиями. Поэтому нет и средних, и мелких, которые бы в конечном итоге работали на эти крупные. В академических институтах, многие из которых дышат на ладан, ставок нет. Один путь — за границу. Ну, а там свои проблемы. Да и ориентировать свою талантливую молодежь на отъезд на чужбину как-то странно и накладно.
Мне довелось познакомиться с жизненными и профессиональными траекториями выпускников физического факультета МГУ и факультета управления и прикладной математики МФТИ, кончившими вузы 30 лет назад. Делом, которому их учили, сейчас занимаются 1–2 %. Учили неплохо. Так что проблема эта не системы образования, а всей социально-экономической конструкции, в которую эта система оказалась вписана. Но от этого не легче. Здесь речь шла о людях, действительно получивших качественное полноценное образование. Ну, а если вместо него только бумажка и 5 весело проведенных лет?