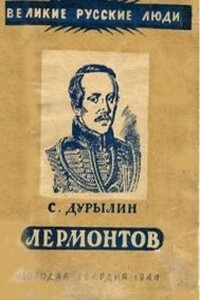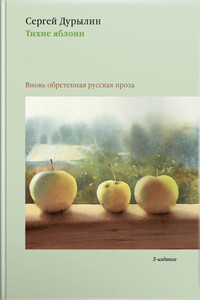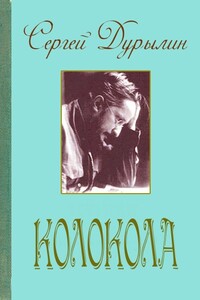В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва | страница 183
В годы нашей бурной юности няня встречалась у нас с нашими товарищами, приятелями и знакомцами разных жизненных углов, житейских пошибов, политических взглядов и общественных устремлений.
Она никогда не вмешивалась в наши толки, беседы и прения ни с какими поучениями и наставлениями. Никаких «прав старости» на руководство молодостью она за собою не признавала или, во всяком случае, никогда их не предъявляла; ни в какую стычку с новым временем она не входила, но с какой-то удивительной свежестью чувства и отзывчивостью сердца умела воспринять она многое – и, по совести сказать, лучшее – из наших устремлений, а надо многим умела безобидно подсмеяться или не без добродушного лукавства покачать головой. Но суда над молодежью и над ее бурными порывами она на себя не брала и потому никогда не терпела от тех обычных нападений, которым подвергается косная старость от окрыленной молодости.
Но – удивительное дело! – не разбираясь ни в каких политических толках, няня умела чутко распознать человека сквозь его маску из идей и слов, надетую иной раз так плотно, что она казалась приросшей к лицу. Няня, бывало, вяжет чулок или штопает носки (мы оттопывали их в те годы странствий без числа!), а сама прислушивается к нашим горячим спорам – и вдруг, много спустя, скажет:
– Чубастый-то ерепенится, а пустой он: шалтай– болтай.
Мы тотчас же ринемся на защиту «чубастого»: он чуть ли не лидер в нашем кружке, бурный «активист», как сказали бы теперь, специалист по «рабочему вопросу». А няня упорно твердит свое:
– Что ты хочешь, а у него все – по нётовому полю пустыми травами.
И через годы, а то и через месяцы приходится признаться: няня была права.
А про другого товарища, державшегося скромно и неуверенно, большей частью отмалчивавшегося, она отзовется с похвалой и погрустит, и пожалеет его: хороший, дескать, человек, да запутают его «путаные дела». И тут же спросит: «Мать-то жива у него?»
У няни было тонкое чутье на человеческую доброкачественность: она определялась для няни не тем, кто что сказал или был ли с нею «обходителен», доброкачественность эта определялась чем-то совсем другим: няня зорка была на испод человека, а не на покрышку, которою он себя покрыл.
А всю вообще молодежь, ринувшуюся в 1902–1905 годах в политическую борьбу, она жалела без разбору: жалко ей было и «хороших человеков», и «шалтай-болтаев».
Но она умела не только жалеть.
Ее богадельня за Калужской заставой была тихим местом, словно огороженным монастырскими стенами, и брату, в эпоху 1905 года бурно ринувшемуся в то, что няня называла «путаными делами», пришло в голову, что не может быть лучшего места для хранения только что отпечатанных на гектографе прокламаций и браунингов, как нянина богадельня-монастырь.