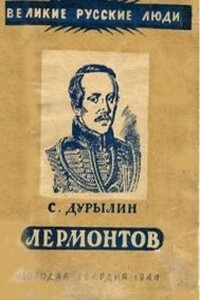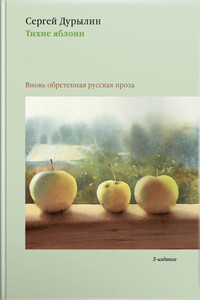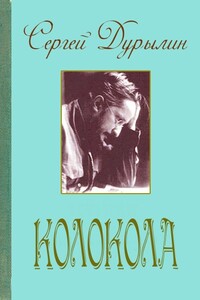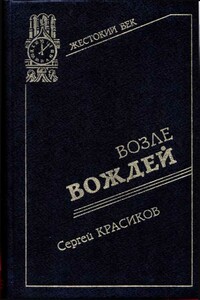В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва | страница 169
Иной раз наступала другая маленькая беда: на нас, по уверению няни, нападал Едун. Без поры без времени мы приставали к ней: «Няня! Дай огурчика с хлебом!» или: «Няня! Хочу моченого яблока».
Эти требования разрушали весь распорядок дня, назначенный для нас матерью, и няня сперва отмалчивалась, будто и не слышит про огурчик и про яблоко. Иногда Едун, не получив ответа, исчезал от нас куда-то. Но большею частью он был приставуч:
«Няня, принеси огурчика…» Няня сообщала нам в ответ: «Глаза у вас не сыты». При повторных просьбах она наконец махала рукой: «Едун поедучий напал», – ничего, мол, с ним не поделаешь, и молча отправлялась за огурчиком или яблоком.
Также на нас нападал Каприз или мы начинаем праздновать «Лентяю преподобному» – и это неприятное нападение прогонялось, а непохвальное празднование прекращалось так же умело и действенно, без особых карательных мер, как и проявление «хаоса» и нападения Едуна.
Нянина педагогика[161] не охоча была ни на карательные меры, ни на претительные запреты. А между тем объем воздействий этой педагогики был куда обширнее, а ответственность за питомцев была куда больше, чем у обычных педагогов!
Няня, например, верила в дурной глаз и в производимый им «сглаз» и считала долгом охранять нас от него.
Бывало, мама войдет в детскую и скажет:
– Приехала Анна Ивановна. Надо привести детей поздороваться.
А няня ответит на это:
– К чему это детей водить к ней? У ней глаз нехорош, – и не поведет ни за что на свете.
Еще хуже, если мама без предупреждения войдет в детскую с такой гостьей «с нехорошим глазом». Няня холодно, только чтоб не нарушать приличия, поклонится такой гостье и постарается прикрыть пологом кроватку: дети, мол, спят.
А наутро, для верности, спрыснет меня или брата с уголька.
Но к тем, у кого, по мнению няни, глаз был хорош (и обычно это бывали люди действительно добрые, искренно расположенные к маме), няня с охотою сама приведет нас поздороваться в гостиную, предварительно принарядив и расчесав волосы.
Иной раз она делала это не без наивной и никогда не оправдывавшейся добронамеренной корысти.
– Иди, – однажды напутствовала она меня, маленького, направляя в гостиную, где сидел важный родственник одного из зятьев, богатый одинокий холостяк, – а вдруг он тебе брильянт подарит.
А у него действительно алмазы играли в перстне, в запонках и в булавке, воткнутой в галстук.
Разумеется, надежда няни была совершенно тщетна, и этот важный Павел Иванович, у которого плавали свои суда и баржи на Ладожских каналах, только погладил меня по голове рукой со сверкающим алмазом, но няня, посылая меня, против моего желания, к чужому господину с черной повязкой на одном глазу, пеклась по-своему о моем благополучии: у нее сжималось сердце при мысли, что отец наш стар и мы останемся сиротами без обеспеченного куска хлеба.