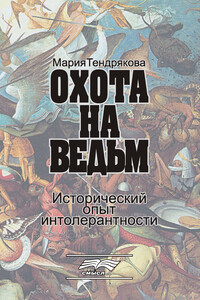Антропология детства. Прошлое о современности | страница 35
До крещения ребёнка нельзя было класть в колыбель — слишком опасно. Царская колыбель устроена была в принципе так же как простая крестьянская зыбка. Это было своего рода жилище младенца. Поэтому во всех случаях принимались меры, чтобы уберечь это пространство от злых сил. Только в царских колыбельках вешали небольшие иконки и драгоценные кресты с частицами святых мощей, а в деревенской люльке крест могли нарисовать углём на днище, а под соломенный тюфячок положить нож, как оберег от зла (Русские 1997). И, конечно же, царские колыбели отличались роскошью, которая должна была сопровождать венценосного младенца с момента его появления на свет: золотые или серебряные кольца и лосиные ремни, на которые колыбели подвешивались, тюфячки из лебяжьего или стрижового пуха, расшитые жемчугами и каменьями шёлковые и бархатные одеялки и беличьи, собольи или горностаевы покрывала. Но и как крестьянская зыбка, царская колыбелька могла рачительно храниться и передаваться по наследству новому члену семьи. Дорогие ткани с «отставных» колыбелей отдавали в церковь для убранства и одежд духовенства, что почиталось делом «богоугодным и благополезным в отношении самого дитяти» (Забелин 1915: 54–57).
В конце первого года проводилась первая стрижка волос — этот обряд детского цикла, отмечающий этап роста и взросления ребёнка, встречается не только в русском патриархальном быту, но и практически по всему миру. Первая стрижка волос, по традиции, действие ритуализованное и высоко семиотичное — в каждой культуре будут свои обоснования её важности. В русской культуре «первое стрижение» было и в царских палатах, и в крестьянском быту: в избе зажигали свечу перед иконами, ребёнка сажали на угол стола или лавку, непременно на шубу мехом наружу, и с молитвой стригли. И. Е. Забелин видел в этом связь с древними постригами: волосы стригли только мальчикам на седле со стрелами в возрасте 4–7 лет, после этого их «сажали на коня», что было существовавшим некогда обрядом посвящения в ратный сан — мальчик становился воином (Забелин 1915: 70–71).
Отголоском этого ушедшего из жизни обряда И. Е. Забелин считает «крепкий обычай» изготавливать годовалому ребёнку игрушечного коня (Забелин 1915: 82–84). Он подробно представляет всю изысканность этих потешных произведений, поднесённых в дар маленьким царевичам. Например, Петру I лучшие мастера вырезали деревянную лошадку, обтянули жеребячьей кожей, обработанной коричным маслом, сделали сафьяновое седло, серебряные удила и подпруги, упряжь с изумрудами, золочёные стремена (Забелин 1915: 201–202). Такие роскошные «потехи», куклы, зверюшки, птицы, игрушечные города, созданные выдающимися резчиками по дереву и часовщиками, аккуратно заносились в списки Оружейной и Потешной палат и были на учёте. Простые же игрушки царских детей покупались на базарах, повседневные детские развлечения и лакомства были те же, что и у обычных детей: «Декабря 15-го царица „ходила молиться к Спасу… по ея государынину приказу торговым людям за потехи, за сани деревянные резные, и за мужики резные ж, да за немочки деревянныя, да за баранчиков, всего 70 коп. …взяты в возок к государыне царице для потехи их государских детей“. <…> 1637 г. Сент. 21 царица пошла к Троице, и по дороге куплено для государских детей колачиков и орехов и ягод и моркови и репы на 24 коп.» (Забелин 1915: 79). В царских палатах следовали тем же традициям по отношению к детям, что и в деревне, совершали те же обряды детского цикла, прибегали к тем же оберегам, тем же баловали: «…великолепие, которым дети государя были окружены с самых первых дней, служило только блистательным ярким покровом самого, можно сказать, простонародного деревенского порядка их начального воспитания» (Забелин 1915: 77).