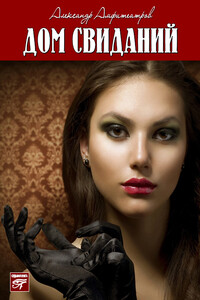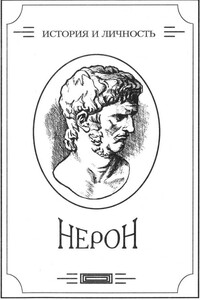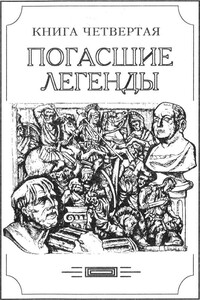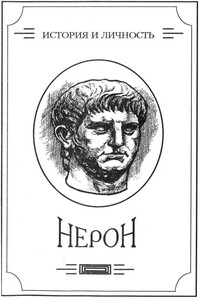Дьявол в быту, легендах и литературе Средних веков | страница 78
У нас в России тему сверхъестественной любви — кроме Рубинштейна, счастливо создавшего «общедоступного», а потому гораздо выше всех достоинств любимого «Демона» (после Рубинштейна писали музыку на тот же сюжет барон Фитингоф-Шель[194], П. И. Бларамберг[195] и Э. Ф. Направник[196]), — особенно усердно разрабатывал Н. А. Римский-Корсаков. Фея в «Антаре», Снегурочка, царевна Волхова, Лебедь, Шемаханская царица, Кащей — удивительнейшие памятники не только внешне-музыкальных красот, но и совершенно исключительного, истинно народного чутья к тайне стихийного мифа. Одна из гениальнейших страниц во всей русской музыке — сцена очарований Ратмира в «Руслане и Людмиле» Глинки — еще ждет какого-нибудь своего Шаляпина в юбке, который растолкует публике сожигающую страстность этой бесовской галлюцинации. Темная власть демона, дышащего из страшных фраз Ратмира, остается еще невысказанной тайною. Может быть, оно и к лучшему, потому что иначе пролилась бы со сцены в зал страстная зараза, в сравнении с которою волшебство «Крейцеровой сонаты», как расписал его, к слову сказать, совершенно произвольно Л. Н. Толстой, должно показаться чуть не детскою молитвою. Я думаю, что если бы Глинка вложил музыку Ратмира в уста тенора, то эта сцена была бы самым страшным оружием обольщения, какое когда-либо создавала музыка. Но судьба заступилась за женский пол, надоумив великого композитора к расхолаживающей ошибке поручить глубочайшее выражение мужской страсти — женщине в мужском костюме, то есть воплотить его в глазах и воображении публики существом какого-то среднего пола: ни мальчик, ни девочка, ни для женской любви, ни для мужской. Глубокие контральто, которых требует партия Ратмира, довольно редки, и все чаще слышишь в Ратмире mezzo-soprano: новое препятствие к полноте впечатления.
«Ожидание божественного сна», о котором кричит и стонет Лохвицкая, — чувственное одиночество, бунт пола против вынужденного целомудрия, — и есть та атмосфера, в которой, как выражается едва ли не талантливейший критик современной Франции, Реми де Гурмон[197], «материализуется инкуб». Древность довольно богата сказками этого поверья: они отразились даже в законодательстве Моисея (Второзаконие, 4; Левит). Античный мир Эллады и Рима узаконил инкубат и суккубат бесчисленными баснями своей мифологии, с которыми вела беспощадную борьбу христианская апологетика, а неоплатоники тщетно пытались перевести их в стихийные символы пантеизма. Отцы Церкви верили в инкубов. Бл. Августин зовет их еще по-старинному фавнами и сатирами. Аскетическая пустыня, где мучились сверхчеловеческою борьбою с голосом плоти Антоний, Иероним и другие, оставившие нам потрясающие летописи своих искушений, сделалась рассадником и лабораторией мучительно страстных легенд, которые через «Жития святых» и устное предание прошли сквозь Средние века, обновились в эллинизме Возрождения и, назло рационализму, материализму и позитивизму новой цивилизации, благополучно доползли до XX века. Гностический маг, выдававший свою любовницу за перевоплощение Елены Спартанской, воскресает в «Фаусте» Марло