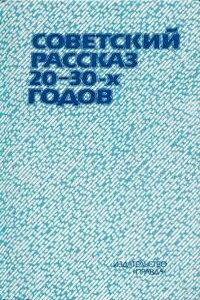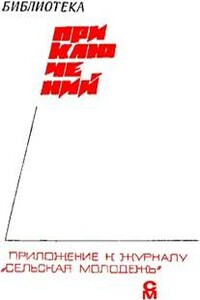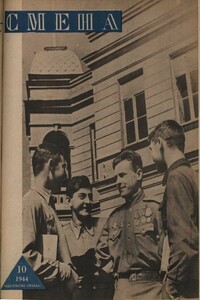Записки спутника | страница 83
У нас заболели трое из купавшихся в тот день и вечер в реке; еще трое почувствовали рецидив старой и давней малярии. Таким образом врач мог бы изучить три схожих вида малярии: кабулистанскую, энзелийскую у Ларисы Михайловны и у Синицына и малярию пограничную из Чильдухтерана — ее на себе изучал сам доктор Дэрвиз. На кошме, распростертый как труп, лежал врач миссии — наша надежда. Нужно сказать, что в тот день на рассвете труба не играла поход, и мы на день застряли на рабате, в приятной близости реки и малярийной долины. К вечеру все больные отболели. Мы собрали военный совет и решили во что бы то ни стало уходить из проклятой долины. Анофелесы густыми столбами дымились над рекой: их было мириад мириадов, воздух был густым и упругим и звенел как струна от комариных полчищ. Между тем река была нарисована красивым синим росчерком среди желтых камней — чудесная река, живописная, зеленая долина.
Северяне или родившиеся на нашем юго-западе верили доброй природе своей родины, земле, воде и солнцу, тихим рощам, ласковым рекам, траве и зелени. Мой земляк ложился прямо наземь и укушенный скорпионом мгновенно распухал и три дня метался в бреду; он накидывался на фрукты — и его караулила дизентерия: он купался в горной реке — и здесь была малярия. Даже клоп назывался верблюжьим и кусался так, что кровоподтек от укуса держался с полгода. Даже вьючный конь, коняга — скромнейшая и безобидная животина на родине — здесь превращалась в чорта и норовила ляпнуть и укусить чужеземца. А псы кочевников, перед которыми наши цепные псы — кроткие комнатные собачки! Мнительный человек каждый день открывал у себя пендинскую язву и подкожного червя ришту и, если хотите, проказу, потому что прокаженные ходили на свободе по кишлакам и заглядывали на базары. Да, много забот было у мнительного человека в Афганистане.
Вот мы прожили день на рабате Маар-хана, в почтительном отдалении от реки. Отощавшие кони жевали саман, и мухи роями летали над сбитыми спинами животных и сидели на незаживающих ранах. Пять коней уже пало в пути. Под вечер, когда ушло солнце, мы поехали в долину. Голова гудела, в ушах звенело от хинина: теперь все глотали хинин лошадиными дозами. Мы ехали шагом и за горой открыли дым костра и лагерь кочевников. Высокие, стройные, полуголые люди в цветных, темных цветов, чалмах, свежевали верблюда, и глава племени делил верблюжье мясо. Закопченые, разодранные шатры открывали жалкую утварь кочевников. Но вдруг мы почувствовали странное волнение от того, что люди говорили не на языке «фарси», испорченном афганцами, и даже не на наречьи «пушту», а на «урду» — одном из наречий Индостана. Ветер Индии, воздух, запах Индии шел от черных закопченых шатров. И тут мы еще раз поняли и узнали, что каждый шаг, каждый час пути приближают нас к Индии, колыбели человечества, мечте каждого странника и врожденного бродяги. Это были мухаджерины, мусульмане-индусы, ушедшие из британской Индии. Они тысячами перешли границу и спустились с Сулеймановых гор в Афганистан, потому что хотели жить в стране мусульман. Это был своеобразный протест против британского владычества. Когда мы узнали об этом, то поняли неуловимую разницу между обыкновенными кочевниками «хане-и-сиар» (черные шатры) и спокойными, задумчивыми, исполненными своеобразного достоинства людьми из сердца Индии. Злое солнце, жестокий и злой климат гор, пыль многих дорог, грязь и пот изменили их облик и даже правильность, соразмерность в чертах их лиц. Афганцы из Гератской провинции с трудом понимали их; они мало понимали афганцев; в отношении нас они проявляли только сдержанное любопытство. Мы вернулись в лагерь, и Лариса Рейснер с необычайным волнением слушала рассказ о ветре Индии, долетавшем из-за гор Сулеймана.