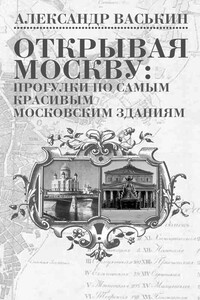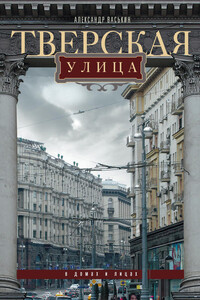Рассказы о жизни московских зданий и их обитателей | страница 72
Царскому взору предстала следующая картина: интересное здание со строгим двухэтажным фасадом, «равномерно члененным расположенными в простенках между окнами приставными колонками, со знакомыми по Кремлевскому дворцу и Оружейной палате арочными окнами с гирьками в первом этаже и сдвоенными – во втором». В центральной части здания – двухъярусная башенка с часами и флагштоком.
Царский поезд прибыл в Москву по так называемой русской колее шириной 1,524 миллиметра. Русской она стала с тех пор, а доселе считалась американской – так, по крайней мере, объясняли современники выбор именно этого размера. А ссылались они опять же на американских консультантов, участвовавших в прокладке дороги, в частности Джорджа Вашингтона Уистлера – его называют самым популярным американцем в России той эпохи (сегодня его фамилия также прославляет Америку – ведь его сын великий художник Джеймс Уистлер). Инженера позвали в Россию, посулив ему огромные деньги – 12 тысяч долларов в год, он долго не раздумывал, ибо на родине получал в четыре раза меньше. За такие деньги можно было строить дорогу хоть до Парижа! Уистлер не только настоял на своем размере колеи (5 футов, то есть 1,524 м), но и предложил эпюру пути – этим мудреным словом обозначается число шпал на километр пути. Обрадованный Николай I в 1847 году удостоил американца за его горячее усердие и помощь орденом Святой Анны II степени. На этом работа Уистлера в России не закончилась, он проектировал в Кронштадте, Санкт-Петербурге (Благовещенский мост через Неву, крыша Михайловского манежа), Архангельске. В дальнейшем отличие русской колеи от европейской приписали мудрости Николая I: дескать, царь уже тогда как в воду глядел, предвидя очевидные трудности противника в очередной войне, которому будет нелегко оперативно отправить свои бронепоезда по российским железным дорогам: размер-то не совпадает!
Чтобы имя строителей дороги осталось в памяти потомков, императорский министр путей сообщения Павел Петрович Мельников вынес на коллегию МПС предложение о строительстве железнодорожной церкви. Предложение было поддержано. Строилась церковь по проекту на добровольные пожертвования, большую часть которых внес Мельников (ныне на площади Трех вокзалов стоит памятник министру).
Регулярное движение по первой российской магистрали было открыто 1 ноября 1851 года. А московский генерал-губернатор «…объявил жителям, что с первого числа ноября месяца начнется движение по С.-Петербургско-Московской железной дороге, и на первое время будет отходить в день по одному поезду. Пассажиры приезжают за час, а багаж за 2 часа. Доезжают за 22 часа». С открытием дороги связана одна занятная история, возникновению которой обязаны российские чиновники. Поговаривают, что некий бюрократ исключительно в благих целях распорядился обозначить рельсы, так сказать, на местности, покрасив их в белый цвет. А поскольку краска была масляной, поезд не смог двигаться дальше и остановился. Пришлось замазывать краску сажей. Кстати, для чего император взял с собой целых два батальона гвардейцев – вопрос особый. Как и все новое, дорога поначалу вызывала у обывателей страх и удивление перед невиданным ранее чудом. Желающих обновить путь не находилось. Поэтому пассажирами первого и второго поездов и были исключительно солдаты Преображенского и Семеновского полков, совершивших путешествие из Петербурга в Москву и обратно. Толпы населения встречали и провожали первые поезда, удивляясь при этом: «До чего народ доходит – самовар в упряжке ходит!» Это были слова из стихотворения, расходившегося в лубках по всей России: