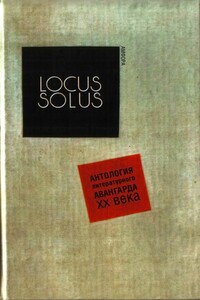Сакральное | страница 46
Он не дал мне продолжить: «Как? Но, дитя мое, вы все равно вернетесь к Богу, вот увидите, я в этом уверен, милая моя, доверие нельзя навязать… разумеется… но вы ведь ко мне еще придете, дитя мое, я уверен, не так ли?»
— «Не думаю». Я встала и, уже не скрывая иронии, добавила: «До свидания, господин кюре».
Был погожий весенний денек. Купаясь в теплом апрельском солнце, я вдруг застыла перед своим отражением в зеркальной витрине: мешковатое грязно–серое пальто, неподтянутые черные нитяные чулки, перо набекрень. Я залилась смехом посреди пустынной улицы Вожирар, купила нарциссов и вернулась домой, где первым делом отпорола перо. Меня порадовала встреча с братом, мне было весело с ним. Кюре оказался столь жалким, что я не отказала себе в удовольствии посмеяться над ним. Вообще говоря, это было не в моем характере, поскольку до сего дня мне было свойственно «глубокое уважение перед всеми искренними убеждениями». Уважение, которое никто из домашних мне не оказывал.
В глубине души я была разочарована. И это наши «духовники», «водители совести»! Все они стоят друг друга: пугливые глазки, худосочные ручонки. Я записала в тетради: «Религия? Удобная ширма, чтобы отгородиться от жизни, смерти, страдания. Все предопределено — как рента, страховка. Отныне я буду жить согласно своей совести, да — я буду искать… читать… во всяком случае, чтобы заметить, что вокруг одно сплошное лицемерие, большего ума и не нужно. Определенно я ненавижу их всех. Я чувствую себя чудовищно и восхитительно одинокой».
Мне было семнадцать лет[17].
Я уходила с головой в музыку, затем от нее отрекалась, записав в своей тетради: «наркотик, ничего больше»; я отлично сознавала, что неделями переходя от Баха к Дебюсси, от Шумана к Равелю, от Рамо к Мануэлю де Фалья, от Моцарта к Стравинскому, я лишь меняю наркотик, в моей жизни не было нечего настоящего. То же самое было и с чтением. «Настанет ли время реальной жизни?» Моему образу необходима реальность, но каков он, мой образ? Меня терзают противоречия, а надо бы, чтобы жизнь «нарастала», как фуга Баха: нужен центральный мотив, который усиливается, постоянно обогащается, с чем‑то пересекается, что‑то вбирает в себя, что‑то отбрасывает, меняется и остается неизменным. В Бахе я черпала свою «мораль», в Стравинском обретала свою горячность. В живописи я любила примитивистов и Таможенника Руссо, Утрилло, некоторые работы Пикассо. Но любить живопись не значило для меня смотреть на какую‑нибудь картину, а потом перейти к другой, живопись была истинным источником моей жизни, но и здесь мне безумно хотелось дать волю этой презрительной иронии ко всему, от чего я была без ума, и что мой ум питало: «Наркотик, ничего больше».