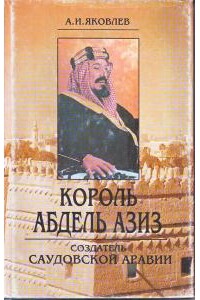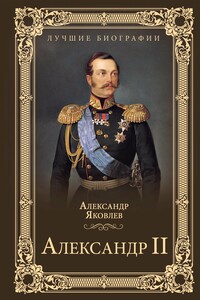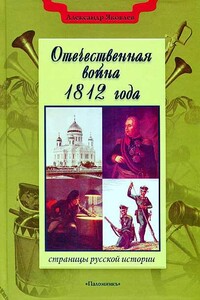Светоч Русской Церкви. Жизнеописание святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского и Коломенского | страница 65
Протоиерей Герасим Павский, уволенный в 1836 году с должности законоучителя наследника престола великого князя Александра Николаевича и царских дочерей Марии, Ольги и Александры Николаевен (отчасти вследствие отрицательного мнения владыки Филарета о его богословских статьях), был оставлен при Дворе с саном протопресвитера Таврического дворца. Освободившееся время он посвятил научным занятиям. В журнале «Христианское чтение» регулярно публиковались его статьи: «О богословии святого Григория Богослова», «Учение о Боге и опровержение Евномия и его последователей», «О Mipe и Ангелах», «О бессмертии и судьбе по смерти». Он продолжал переводить Библию и в ходе чтения лекций в Петербургской духовной академии знакомил студентов с переводом Ветхого Завета, доведенным до пророческих книг. Цель была проста: облегчить по возможности понимание священных книг. Списки его переводов переходили с курса на курс и сделались широко известны. Наконец лучшие из списков были литографированы в количестве 150 экземпляров. Примеру питерцев последовали студенты Московской и Киевской духовных академий. Отметим, что организация дела проводилась втайне от начальства.
Но вот в конце 1841 года митрополит Киевский Филарет (Амфитеатров), будучи в Петербурге, получил письмо без подписи, посланное из Владимира и осуждавшее литографированный перевод Павского: «Высокопреосвящен-нейший Владыко! Мысль, что Господь поставил Вас стражем Своей Церкви, дает смелость мне, последнему служителю Его, обратиться к Вашему Высокопреосвященству и представить Вашему вниманию некоторые из отступлений перевода от истины…». Разобрав некоторые сомнительные места перевода, аноним восклицал: «На русском языке едва ли когда являлось такое богохульство, как в литографированном переводе. Змий начал уже искушать простоту чад Святой Православной Церкви и, конечно, станет продолжать свое дело, если не будет уничтожен блюстителями Православия, которым Господь вручил водительство Своей Церкви…». В то же время ревнитель чистоты Православия не предлагал подвергать переводчика осуждению Церкви и отлучению, но – наложить на него «временную епитимию». «Самое действенное средство воспрепятствовать распространению перевода, – заключал аноним, – состоит в том, чтобы удовлетворить общему чувству нужды верным переводом, обнаружить в полном свете саму истину, которая имеет довольно силы состязаться с ложью и одержать над нею победу».
Митрополит Киевский передал письмо и приложенный к нему экземпляр перевода обер-прокурору Святейшего Синода графу Н. А. Протасову со своим заключением: «При самом поверхностном обозрении сего нечестивого творения нельзя не видеть с глубоким прискорбием, какое важное зло для Православной Церкви и Отечества нашего может произойти от распространения его в духовных учебных заведениях и в народе».