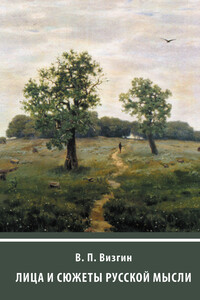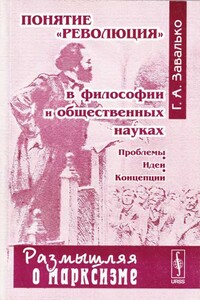Пришвин и философия | страница 34
Думать и писать Пришвин мог только при свете пылающей мечты. Как только одна мечта отгорала, он сразу же устремлялся к другой, чтобы жить ее теплом и светом. Добравшись до Северного ледовитого океана, проплавав с поморами по его суровым волнам, посмотрев на их жизнь при полуночном солнце, Пришвин почувствовал, что свой настроенный на Север «эрос»[55] (как сказал бы Гачев) он уже насытил, и пора менять галс. «Я уже пережил Мурман, – пишет он, – мечтаю о Норвегии, о возвращении к своим привычкам, занятиям…»[56]. Поморский берег ему уже в тягость. Он его «пережил», как ему кажется.
Гачев аналогичным образом жил своими переменчивыми мечтами. Мечта допекала его, он поддавался ее чарам. А потом, погружаясь в пережитое ее воплощение, он по горячим следам записывал свои впечатления, пока, наконец, его конкретно ориентированный «эрос» не терял свою силу. Затем приходила новая мечта. И все повторялось. Такими объектами мечтательных тяготений у Гачева были не столько этногеографические ландшафты и природные экосистемы, как у Пришвина, сколько национальные «психокосмологосы». По сути дела, описывая жизнь лапландцев на Имандре или поморов на Мурмане, Пришвин делал то же самое, что и Гачев, хотя этого технического термина у него нет. Но дело не в термине, а в сути дела. А она была у Пришвина-очеркиста практически той же самой, что и в работе над очерками ментальностей народов мира у Гачева. Его умозрения с целостным погружением в материал, питаемые встречей с интересуемым его национальным «психокосмологосом», даже методически были похожи на то, как работал Пришвин. Но при этом были и существенные различия. Можно сказать, что у Гачева больший удельный вес, чем у Пришвина, приходится на культурологическую книжную составляющую его очерков национальных культурных миров. В своем искусстве Пришвин больше, чем Гачев, реалист и даже ученый-наблюдатель. Но при этом поэзия природы края, по которому путешествует Пришвин, поражает нас, пожалуй, больше его этнографически-культурологических наблюдений, для которых путешествие давало материал. По части же метафизических фантазий Гачев опережает Пришвина, который проявил себя метафизиком преимущественно в своих дневниках.
Пришвин как писатель начинал с очерка, материал для которого собирал во время путешествия по манящим его мечтательное сердце местам. Как писатель-очеркист он удивительным и оригинальным образом соединял научно-реалистический рассказ натуралиста-этнографа о виденном и услышанном с художественным его преображением. Научно-объективное измерение творчества при этом выступало в художественном преломлении, немыслимом без активности авторской «субъективности».