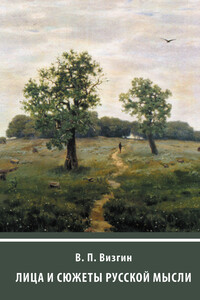Пришвин и философия | страница 18
Выпишу некоторые сохранившиеся с тех лет записи на полях «Незабудок» и поясню их. Творить – значит вступать в отношение к другому как к самому себе (с. 249)[28]. Этот комментарий к такой мысли автора «Незабудок»: «Творчество состоит в том, чтобы умереть для себя и найтись или возродиться в чем-то другом». Теперь я вполне понимаю мысль Пришвина. Он имеет в виду свой опыт, когда писатель как путешественник и очеркист забывает себя, погружаясь «родственным вниманием» в другое, чем он сам. При этом он, в конце концов, если по-настоящему справился со своей задачей, не теряет себя, а обретает, потому что из своего самозабвения ему удается «возродиться в чем-то другом». Первой значительной литературной «вещью» Пришвина стала книга очерков «В краю непуганых птиц» (1907). Вершиной подобной литературы он впоследствии считал книгу Арсеньева «В дебрях Уссурийского края». Ему нравилось, что писатель-путешественник ничего в ней не «сочинял», а взял и опубликовал свои путевые дневники исследователя плохо изученного тогда края в их натуральной фактуре. Аналогия с Арсеньевым здесь неслучайна: Пришвин, подобно исследователю-очеркисту Уссурийской тайги, путешествовал в другом не слишком известном в то время крае – в Олонецком – и записывал свои свежие впечатления. «Беллетристика», «литература» (а иногда это обозначается и словом «поэзия») противопоставляются Пришвиным, выступающим в роли теоретика литературного творчества в «Журавлиной родине» (1929), реалистическому очерку наблюдателя-исследователя.
Сколько слов упало на бумагу и улетело в воздух, пока, наконец, одно из них не зашевелилось в душе человека? (с. 248). Эту фразу я записал на полях напротив медитации Пришвина, вызванной случайным падением с его рабочего стола портрета Валерии Дмитриевны. Он гордо отвергает шевельнувшееся в душе суеверие, будто это знак, что она, ему самый дорогой человек, умрет скорее, чем он сам. Такие мысленные эксперименты они ставили нередко в своих разговорах. И вот, в духе персидских поэтов, с вариациями одной парадигматической фразы, Пришвин перечисляет: «Сколько нужно было дворникам поскрести <…> пока, наконец, этот звук не проник в мою душу? Сколько солнечных лучей пало на землю, пока, наконец, один не проник в душу человека и зажег в ней любовь?» И напоследок дает в той же тональности мысль о том, сколько же умирало людей, пока, наконец, один «так восхотел жить, что заговорил о необходимости человеку добиться бессмертия?» Кого он имеет в виду под этим исключительным «одним»? Напрашивается – себя, ведь это же он сам так много и так страстно вдумывается в возможность и необходимость для человека бессмертия. Но в то же время не самого ли Богочеловека он имеет здесь в виду? Правда, Спаситель не просто «заговорил» о бессмертии, а реально «смертью смерть попрал». А Благая Весть через это Событие путь к бессмертию разнесла по всему свету. Поэтому, наверно, он имел в виду все же себя со своей